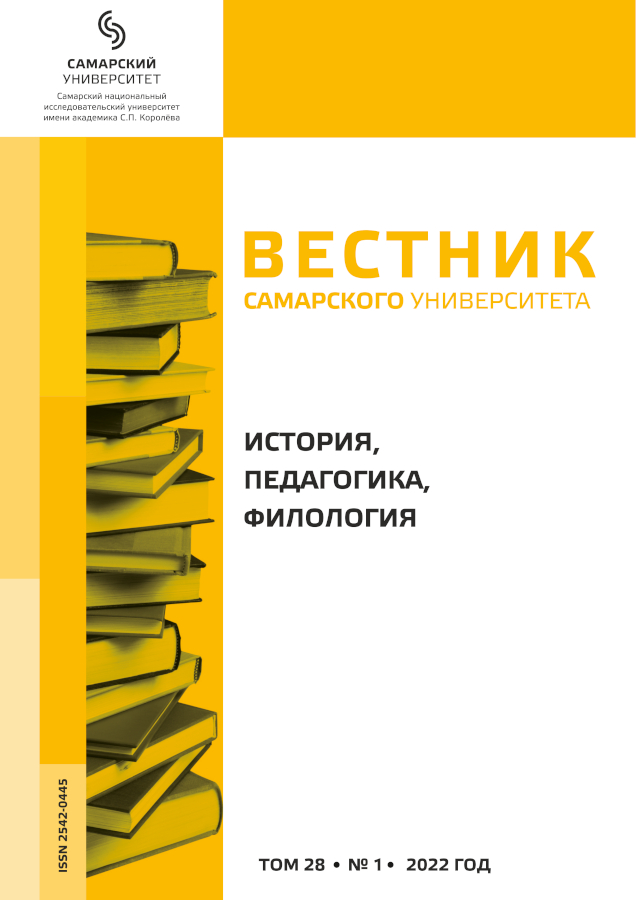Historiography of history of Soviet school everyday life
- Authors: Astafiev D.A.1, Godovova E.V.2
-
Affiliations:
- Orenburg branch of Educational Institution of the Trade Unions of Higher Education «Academy of Labor and Social Relations»
- Orenburg State Pedagogical University
- Issue: Vol 28, No 1 (2022)
- Pages: 8-23
- Section: History
- URL: https://journals.ssau.ru/hpp/article/view/10021
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0445-2022-28-1-8-23
- ID: 10021
Cite item
Full Text
Abstract
Authors present an overview and analysis of publications of the Soviet and post-Soviet periods of the historiography of Soviet school everyday life. The authors note that in the Soviet period, a significant part of the scientific work focuses on the determining and leading role of the party in the field of school education, the promotion of advanced pedagogical experience in teaching and education, as well as solving the practical problems of public education. In the 1990-ies general education school and school everyday life become objects of interdisciplinary research for scientists representing various scientific fields: historians of education, teachers, philosophers, sociologists, culturologists, etc. It is noted that in the total volume of publications devoted to the everyday life of the school, teachers and students of the Soviet era, scientific works performed by historians make up an insignificant number. The daily life of the Soviet school and Soviet teachers becomes an independent topic for study by Russian historians and representatives of other scientific fields only in the early 2000-ies. However, historians still turn more often to the analysis of state policy in the field of school education, the training of teachers, school history education in the Soviet period, etc. The results of our analysis show that scientific articles, monographs and theses devoted to the topic of school everyday life and everyday life of a teacher of the Soviet era are much less than scientific papers on children’s everyday life. This circumstance, of course, determines the relevance and necessity of comprehensive studies of everyday life of Soviet school, especially on the materials of individual regions of the country.
Full Text
Введение
Цель настоящего исследования – анализ научных публикаций по теме советской школьной повседневности. Для ее достижения была произведена сравнительная характеристика советского и постсоветского периодов в историографии советской школьной повседневности, рассмотрена школьная повседневность как объект изучения в исторической науке и междисциплинарных научных исследованиях, проанализированы монографические исследования отечественных и зарубежных ученых по теме советской школьной повседневности. Основные историографические методы, на которые опирались авторы в данной работе, – метод периодизации и метод перспективного анализа.
Историографию советской школьной повседневности в широком аспекте можно условно разделить на два основных периода: советский (1917–1991 гг.) и постсоветский (1991 г. – по настоящее время).
Публикации советской эпохи преимущественно освещают проблемы партийного руководства народным образованием и управления школой, положение педагогических кадров, количественные и качественные изменения школьной сети, материально-технические условия существования общеобразовательной школы и др. Общеобразовательная школа зачастую в работах советского периода рассматривается в широком контексте партийного руководства или культурного строительства. Исследования в основном показывают доминирующую роль партии и государства в сфере образования. Авторы публикаций советского периода отмечают только положительные аспекты мероприятий и реформ в сфере школьного образования. Однако следует заметить, что во многих работах представлен ценный фактический материал, обозначены конкретные практические вопросы укрепления учебно-материальной базы общеобразовательных школ, охарактеризованы трудовое воспитание и профориентация школьников и др. Основная тенденция, нашедшая отражение во многих трудах исследователей советской эпохи, – анализ решений партии, съездов, пленумов по вопросам школы.
В работах советского периода фактически отсутствует целостный анализ школьной повседневности, поскольку в них не используется один из главных источников изучения повседневности – источники личного происхождения. Труды советских ученых преимущественно опираются на нормативно-правовые документы, официальные статистические отчеты, делопроизводственную документацию различных учреждений, ведомств и партийных органов, архивные источники и материалы периодической печати.
Постсоветский период в изучении общеобразовательной школы связан с позитивным влиянием на отечественную науку происходивших в стране демократических преобразований. Исследователи в 1990-е – 2000-е гг. начинают отказываться от навязывавшихся долгое время со стороны партийного руководства стереотипов и догм, в научных работах появляются критический анализ и объективные выводы. В научных трудах рассматриваются экономические, философские, социологические аспекты развития общеобразовательной школы.
Авторы анализируют школу в ракурсе влияния рыночных отношений на развитие образовательных учреждений, развития негосударственного сектора образования, нормативно-правовой базы школьного образования, регионализации и муниципализации образования, взаимодействия государственных и общественных структур в управлении образованием и т. д.
Значительная часть исследований посвящена в основном современным проблемам образования. История развития и становления системы школьного образования освещается гораздо реже.
Постсоветский период привнес новые подходы в исследование общеобразовательной школы. Для научных работ стали характерными специализация исследований и разработка отдельных аспектов и проблем развития общеобразовательной школы. Определенный недостаток работ этого периода – акцент на негативных оценках опыта советской школы.
1990-е гг. – это время становления нового научного направления в отечественной исторической науке – истории повседневности, которая ориентируется на применение микроисторического подхода для изучения влияния культурно-исторических, социально-экономических и политических процессов, происходивших в государстве в определенный исторический период, на социально- демографические группы, отдельных людей, социальные институты и т. д.
Исследователь Н.Л. Пушкарева в ряде своих научных работ определяет основные подходы к изучению истории повседневности. Она считает, что предметом такого изучения являются и быт, и события, точнее – событийная область публичной повседневной жизни, мелкие частные факты и случайности, пути приспособления людей к событиям внешнего мира, обстоятельства частной, личной домашней жизни [Пушкарева 2008]. Оренбургский историк С.В. Любичанковский обозначает проблему определения субъекта повседневности в историческом исследовании [Любичанковский 2012], а в совместной публикации с Н.Л. Пушкаревой [Пушкарева, Любичанковский 2019] определяет категорию повседневности.
Советский период в историографии школьной повседневности
Школьная повседневность не выступала в качестве основного объекта изучения для советских исследователей, обращавшихся к проблемам общеобразовательной школы и истории образования. Исследования народного образования в советский период в исторической науке занимали незначительное место в общем объеме научных публикаций. Это было обусловлено парадигмой развития советской исторической науки. Необходимо отметить, что авторы многих работ, обращающихся к проблемам школьного образования, не являлись историками, а занимались практической работой в органах народного образования, были партийными функционерами, а также представляли другие научные направления – социологию, философию, педагогику. Это во многом определило тот факт, что с течением времени общеобразовательная школа стала объектом междисциплинарных исследований, а вопросы, поднимавшиеся в научных публикациях, даже в советский период отличаются значительным разнообразием.
Главной особенностью большинства публикаций советского периода выступает обязательное обращение к показу ключевой роли партийного руководства в развитии народного образования. Мы полагаем, что в действующей командно-административной системе коммунистическая партия, безусловно, выполняла значительную роль в процессе эволюции школьного образования, но при этом серьезно влияла на советскую школу в плане стандартизации и унификации, что отрицательно сказалось на ее дальнейшем развитии [Данилин 1980; Гирева 1981; Мясников, Хроменков 1981; Руснак 1981; Кондрашенков 1986].
Основной задачей для многих работ стала пропаганда передового педагогического опыта обучения и воспитания, а также решение практических задач народного образования.
В советский период публикуется значительное количество монографий и сборников, посвященных реформе общеобразовательной и профессиональной школы, начавшейся в 1984 г. Первоначально в публикациях давалась исключительно высокая оценка реформы. Поскольку руководство ее реализацией было за коммунистической партией, а ее действия не могли подвергаться критике, то противоречия и трудности, встававшие на пути реформирования школы, прежде всего объяснялись неподготовленностью педагогических коллективов к решению поставленных перед ними задач [Жукова, 1986; Подобед, Кричевский 1986].
Солидные работы исследователей В.Ф. Кривошеева, В.П. Леднева, П.В. Худоминского, обобщающие исторический опыт подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации в советское время, появляются в середине 1980-х гг. [Леднев 1985; Кривошеев 1986; Худоминский 1986].
В основной массе научных исследований и работ советского периода не всегда представлен объективный анализ государственной политики в отношении школы. В них доказывается тезис о возрастании роли партии во всех сферах жизни советского общества, в том числе и в образовании.
В конце 1980-х гг. ряд исследователей, например М.Н. Руткевич и Н.А. Хроменков, более критично начинают рассматривать политику правящей партии по отношению к общеобразовательной к школе, а положение школы в 1980-е гг. – как кризисное [Руткевич, Рубина 1988; Хроменков 1989].
Л.Н. Денисова обратилась в своей работе к проблемам реализации всеобщего среднего образования в сельских населенных пунктах. Автор останавливается на анализе состояния материальной базы общеобразовательной школы и педагогических кадров, но, находясь по-прежнему под влиянием идеологических стереотипов советской эпохи, значительную роль в развитии общеобразовательной школы оставляет за коммунистической партией [Денисова 1988].
Диссертационные исследования Л.Э. Мезит, Е.В. Савельевой и др., выполненные в советский период, поднимали вопросы партийно-государственного руководства школьным образованием. Элементы критики в данных работах, как правило, носили единичный характер и не ставили под сомнение теоретические основы и практику школьного реформирования (Мезит 1989; Савельева 1990; Богомолов 1990). Ж.М. Лозинская в своей работе обосновывала объективную необходимость качественных преобразований в сфере образования, но ничего не говорила о недостатках реформы 1984 г. и не подвергала критическому анализу состояние народного образования в исследуемый период (Лозинская 1987).
В целом историография истории советской школы существовала в русле трех основных направлений. К первому относятся исследования, показывающие роль партийного руководства школьным образованием и идеологические задачи, стоящие перед советской школой. Второе направление ориентировалось на изучение народного образования как важного элемента советской культуры, а также обращение к проблемам взаимодействия школы с другими государственными и социальными институтами. Третье направление – работы, выполненные в русле истории педагогики, в которых рассматривались эволюция различных педагогических теорий, развитие образовательных практик в России и за рубежом и др.
Следует отметить, что при этом во многих научных публикациях, несмотря на их идеологизированность, представлен фактический материал, в котором отражены вопросы материально-технического обеспечения и финансирования школы, профориентации и трудового воспитания учащихся, роли профсоюзных, комсомольских организаций, трудовых коллективов в поддержке советской школы и школьников. В изучении советской школьной повседневности необходимо обращение к данному типу работ, поскольку они предоставляют нам богатый статистический материал, основанный на отчетных и делопроизводственных документах того времени, показывают роль и положение общеобразовательной школы в обществе. Однако в этих работах практически не показана повседневная жизнь школы, мы не узнаем из них, чем жили и что чувствовали учителя и ученики, жившие в разные годы существования советского государства, поскольку исследователи недостаточно использовали источники личного происхождения. В рамках истории повседневности источники личного происхождения дают нам возможность увидеть эмоциональную оценку происходивших событий, проанализировать аспекты повседневности, не учтенные официальными документами.
Общеобразовательная школа становится объектом междисциплинарных исследований, поэтому к ней в своих работах обращались ученые различных направлений исторической, педагогической, экономической, юридической науки и т. д. В основном в данных публикациях авторы анализировали состояние современного для них образования, а вопросы, касающиеся истории школьного образования, освещались гораздо реже.
Постсоветский период в историографии школьной повседневности
Работы постсоветского периода перестают носить глобальный характер, для них становится более характерной регионализация исследований.
Можно выделить ряд трудов комплексного характера по истории школьного образования ряда областей Южного Урала, где на фактическом материале представлено развитие общеобразовательной школы, в том числе и в советский период [Михащенко 1995 a; Михащенко 1995 б; Федченко 2014; Конев 2017].
В изучении проблем школьного образования на региональном уровне важное место занимает исследование Г.В. Кораблевой, в котором автор впервые на богатом архивном материале анализирует различные аспекты функционирования школ Уральского региона (обеспеченность педагогическими кадрами, содержание образования, управление образованием и др.) [Кораблева 2001].
В 2000-е гг. были защищены диссертации по проблемам развития общеобразовательной школы на региональных материалах О.А. Дорошевой, И.А. Шебетя, Д.А. Астафьевым, Л.А. Кривцовой, и др. (Дорошева 2003; Шебетя 2003; Астафьев 2007; Кривцова 2009).
Постсоветский период определил новые ориентиры для исторических исследований в области школьного образования. В них наблюдается стремление к объективности анализа и критической оценке советской эпохи народного образования, однако многие работы отличаются излишне негативными оценками исторического опыта развития отечественной школы. Научные монографии и статьи по проблемам школьного образования становятся более специализированными и касаются отдельных аспектов школьного образования. Еще одна особенность – значительная часть исследований выполнена в рамках истории педагогики, философии образования, социологии образования, культурологии, экономики образования и др. научных направлений, а не в рамках исторической науки.
Изучение советской школьной повседневности становится одной из важных тем историографии постсоветского периода. Благодаря возникновению нового научного направления в исторической науке появляется возможность рассмотреть и подвергнуть анализу советскую общеобразовательную школу в аспекте ее повседневного существования. Обучение в советской школе – это огромный пласт советской повседневности. Школа в советском государстве выступала не только в роли образовательного института, но также играла важную политическую роль, становясь провод- ником официальной коммунистической идеологии. Воспитывать советского гражданина нужно было с детства. Историки, изучавшие советское общество, не могли игнорировать данный факт, поэтому исследования, посвященные советскому детству и советской школе, все сильнее звучали в актуальной исторической повестке. Еще один немаловажный аспект, который обуславливает интерес исследователей к советской повседневности, в том числе и школьной, – это неугасающая ностальгия многих наших сограждан по «светлому» советскому прошлому.
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. отечественные исследователи Е.Ю. Зубкова, Н.Н. Козлова, Н.Б. Лебина, И.Б. Орлов начинают публиковать первые работы, посвященные различным аспектам советской повседневности, тем самым знаменуя появление нового научного направления в исторической науке [Зубкова 1999; Козлова 2005; Лебина 2006; Орлов 2010]. Именно в начале 2000-х гг. школьная повседневность становится объектом изучения для ученых различных научных направлений. Анализируя публикации, посвященные повседневной жизни советской школы в разные годы, мы наблюдаем интерес к данной проблематике не только у историков, но и у историков образования, культурологов, социологов, философов. Во многих исследованиях пересекаются и взаимодополняют друг друга темы детской повседневности и школьной повседневности [Сальникова 2007; Конструируя детское… 2011; Смирнова 2015; Хисамутдинова 2021] (Ромашова 2006; Коренюк 2017; Ашенова 2018; Перова 2021).
В Санкт-Петербурге по инициативе исследователей С.Г. Маслинской, К.А. Маслинского, А.А. Сень- кина был организован проект по советской школьной повседневности «Антропология советской школы» [Антропология… 2010]. Авторы рассмотрели школьную повседневность в ракурсе ранее не исследованных элементов: школьные конфликты, приказы директора, школьная открытка, тексты о школе, игры на переменках и т. д. Впоследствии объектом диссертационного исследования К.А. Маслинского выступила дисциплина в школьной повседневности 1950-х – 1980-х гг. (Маслинский 2017).
По мнению историка М.В. Ромашовой [Ромашова 2015], с начала 2000-х гг. можно говорить о появлении отдельных научных школ исследователей детства в Краснодаре, Перми, Петрозаводске и других городах. Выделенные ею параметры применимы и для характеристики исследований советской школьной повседневности, поскольку основные представители региональных научных школ в своих публикациях обращаются и к этой теме, что прослеживается в работах краснодарских ученых А.Ю. Рожкова, А.С. Ляшок, пермских историков А.В. Чащухина, И.В. Ребровой и др. [Рожков 2011; Рожков 2016; Рожков 2017 а; Рожков 2017 б; Рожков, 2017 в; Ляшок 2011; Ляшок 2013; Чащухин 2011; Чащухин 2012; Чащухин, Реброва 2013].
В целом исторические исследования советской школьной повседневности в общем объеме научных публикаций занимают незначительное место, что говорит нам о необходимости и актуальности разработки данной темы, особенно на региональном уровне.
Отметим монографию Е.М. Балашова «Школа в российском обществе 1917–1927 гг.: Становление «нового человека» [Балашов 2003], в которой автор показывает процесс формирования «нового человека» советского типа, анализируя этот процесс с позиции влияния различных факторов – школьного образования и воспитания, семьи, бытовых условий, социально-экономической ситуации и общественно-политической обстановки в стране. Исследователь, изучая данную проблему, использует широкий комплекс различных источников.
А.Ю. Рожков, опираясь на значительный массив архивных источников, материалов личной переписки, периодических изданий, зарубежной и эмигрантской литературы, анализирует три основные молодежные группы Советской России 1920-х гг., в том числе и школьников, поэтому его труд вносит существенный вклад в историю повседневности советской школы [Рожков 2016]. Автор в своей работе опирается на применение антропоцентрического подхода и методов социологии, отражая междисциплинарность данного исследования. Значительное место в его работе занимает изучение положения советских школьников и учителей. Он приходит к выводу, что заявленные советским правительством планы по реформированию школы на практике в полной мере не реализовались, в основном по причине недостаточности финансовых средств, и это сказалось в итоге на сложном положении учеников и педагогических работников. А.Ю. Рожков старается объемно представить в работе повседневные практики советского школьника 1920-х гг., и это ему удается, поскольку для решения данной задачи он привлекает большое количество источников, особенно источников личного происхождения.
Советская школьная повседневность в качестве объекта изучения привлекает не только отечественных ученых, но и зарубежных исследователей. Американские и британские историки внимательно изучают пространство советской школы в период становления Советской России; особый интерес для них представляют сталинская эпоха и ее отражение в советском образовании. Эта тема широко представлена в англоязычных работах, в них поднимаются вопросы о роли и положении учителей в сталинских школах, раздельном обучении, анализируется развитие отдельных школ и т. д. [Ewing 2002; Ewing 2009; Ewing 2010; Ewing 2016; Fitzpatrick 2002; Holmes 1999; Holmes 2008; Holmes 2020; Kelly 2007; Kirschenbaum 2001].
Научные работы британского филолога и историка Катрионы Келли внесли значительный вклад в изучение повседневной жизни школьников в советский период. К. Келли подвергает анализу повседневные школьные ритуалы и практики, используя устные и письменные источники личного происхождения, а в качестве основных методов – интервьюирование и метод анкетного опроса. Она старается показать через эти практики и субъективные оценки выпускников советской школы, как функционировало «это одновременно и специфическое, и типично советское учреждение» [Келли 2004, с. 114]. Следует отметить и тот факт, что статья К. Келли вызвала бурную полемику и дискуссию в отечественных научных кругах [Обсуждение статьи… 2006].
Американский историк Е.Т. Юинг в работе «Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг.» [Юинг 2011] исследует повседневную жизнь советских учителей, чье профессиональное становление и развитие пришлись на сложную для страны сталинскую эпоху. Автор ограничивает свое исследование 1930-ми гг., тем самым не проводит сравнение положения учителей на начальном этапе формирования сталинского режима и в последующие годы. Американский исследователь показывает сложное положение учителей в социальной, политической и идеологической структуре советского общества в исследуемый период. С одной стороны, партийно-государственное руководство напрямую было заинтересовано в их поддержке, поскольку в 1930-е гг. окончательно оформлялся новый тип советской школы и учителя должны были заниматься не только обучением детей, но и воспитанием советского гражданина, а с другой – педагоги по традиции для многих партийных и местных функционеров являлись представителями враждебной для них прослойки – интеллигенции, поэтому к ним относились чаще всего негативно, в лучшем случае индифферентно. Е.Т. Юинг делает акцент на материально-бытовом положении и уровне профессиональной подготовки учительства. Как справедливо подчеркивает Юинг, «с исторической точки зрения судьбы учительства 1930-х гг. помогают лучше понять долговременное воздействие школы времени сталинизма на развитие советского общества» [Юинг 2011, с. 268].
Выделим ряд публикаций прибалтийских историков, посвященных различным аспектам изучения советский школы: анализу воспоминаний эстонцев, родившихся в 1970-е гг., о советском детстве в контексте советской школы [Raili, Jõesalu 2016]; подготовке советских учителей в Латвии и Эстонии и превращении их в «советских людей» [Rahi-Tamm, Salēniece 2016]; формированию образа идеального учителя в Советской Латвии и характеристике реального образа среднего советского учителя [Kestere, Kalke 2018]. Отличительные черты многих работ исследователей из прибалтийских стран – это обращение к анализу идеологической роли школы в советских республиках, процессов воспитания «нового советского человека», негативная оценка повседневности советской школы как подавляющей личность и использующей механизмы принуждения.
Представители украинской исторической науки активно занимаются изучением повседневной жизни советской школы и учителей на Украине в разные годы существования советской власти. Львовский историк О. Годованская на основе архивных источников показывает особенности повседневности украинских советских учителей [Годованьска 2019]; в совместной статье с исследователем И. Стасюком подвергает анализу свободное время советских сельских учителей [Стасюк, Годованьска 2019]; поднимает тему обеспечения жильем сельских учителей в советские годы, подробно характеризуя жилые дома для учителей, в итоге делает вывод о том, что создание школьных комплексов существенно видоизменило ландшафт западноукраинского села [Годованьска, Годованьский 2020, с. 33]. В коллективной монографии «Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя» киевский исследователь Г. Ефименко в разделе «Повседневная жизнь учительства» анализирует место учительства на советской Украине, останавливается на элементах материального обеспечения педагогов, поднимает тему девиации и нормы в повседневной жизни учителей 1920–1930-х гг. [Єфіменко 2010; Єфіменко 2012].
Объектом исследования Г.М. Ивановой становится советская школа 1950–1960-х гг. в аспекте разнообразных аспектов ее существования: государственной политики в области образования, «антикультовых» кампаний в школьном образовании, реализации «всеобуча», школьной реформы 1958 г. и др. [Иванова 2018]. Автор выделяет в своем исследовании проблему «ученик и учитель в школе и дома». Безусловное достоинство данного научного труда – применение Ивановой для изучения советской школы широкого комплекса опубликованных и неопубликованных источников из центральных архивов Российской Федерации. Это позволило автору показать широкую картину функционирования и развития советской школы в исследуемый период. Однако автор, изучая советскую школу 1950–1960-х гг., в большей степени ориентируется на статистические и отчетные документы советских партийно-государственных органов, а вот материалы периодической печати и источники личного происхождения незначительно представлены в данной работе.
В целом монография вызвала серьезный отклик в научном сообществе, что нашло отражение в рецензиях на нее [Майофис 2019; Смирнова 2020; Красовицкая 2020; Тихонов, Уваров 2020].
Рецензенты однозначно считают, что работа Г.М. Ивановой является значительным вкладом в изучение советской общеобразовательной школы 1950–1960-х гг., однако многие подчеркивают и определенные ее недостатки. Например, В.В. Тихонов пишет: «Множество же неформальных сторон жизни (что, собственно, и составляет «нерв» социальной истории как научного направления) школьного социума, увы, оказывается вне поля зрения контролирующих органов, (в том числе и потому, что их просто это не интересовало). Исследование этой проблематики потребует поиска других типов и видов источников» [Тихонов 2020, с. 172]. М.Л. Майофис также подчеркивает это обстоятельство: «Все эти аспекты, не поставленные в фокус исследования, требуют и принципиально иной источниковой базы: прежде всего рассмотрения центральной и региональной прессы, специальной педагогической периодики, а также книг по вопросам образования, воспитания, детской психологии. Да и архивный поиск должен будет вестись и в других собраниях: в фондах Академии педагогических наук, Российской академии образования, а также в сохранившихся в архивах отдельных школ, с которыми успешно работает в последние годы К.А. Маслинский» [Майофис 2019, с. 365–370].
В постсоветский период мы наблюдаем рост числа публикаций, в том числе и на региональном уровне, посвященных различным проблемам повседневности учителей советских школ [Зверев 2010; Белова 2011; Зверев 2013; Шамсутдинов 2013; Коршунова, Мищенко 2019; Протасова 2018; Протасова 2019; Явнова 2019; Макарова 2020; Бахтина 2021].
Н.А. Белова в монографии «Повседневная жизнь учителей» [Белова 2015] характеризует повседневную жизнь учителя советской эпохи на примере Костромского края. На основе микроисторического подхода она анализирует общие процессы, происходившие в сфере образования в исследуемый исторический период.
Отметим безусловное расширение элементов школьной повседневности (практики письма; образ учителя в массовом искусстве; символы советской школы; анекдоты о школе), становящихся объектами научного изучения, как в исторических работах, так и в междисциплинарных научных исследованиях [Безрогов 2012; Сидорова 2012; Теплова 2017; Шевцова 2017; Карасев, Магсумов 2018; Теплова 2018; Кудряшев 2018; Кудряшев 2020; Куприянов, Кудряшев 2021].
Заключение
Историография советского периода не выделяла школьную повседневность в качестве самостоятельного объекта исследования. Повседневность фактически «растворялась» в важных для того времени вопросах партийно-государственной политики в сфере народного образования, подготовки учительских кадров, состояния учебно-материальной базы общеобразовательной школы и т. д. Научные работы советского периода представляют определенный интерес для исследователей советской школьной повседневности, поскольку в них содержатся обширный статистический материал, отчеты органов народного образования, делопроизводственная документация. Они позволяют сформировать общее представление о месте и роли школы в советской системе, о политических и социально-экономических условиях, в которых она существовала. Однако в данных работах фактически отсутствует обращение к источникам личного происхождения, эго-документам, которые являются первостепенными для изучения повседневности.
С конца 1990-х – начала 2000-х гг. советская школьная повседневность начинает активно привлекать исследователей, значительно вырастает количество научных работ, посвященных данной проблематике. Повседневная жизнь школ и учителей советского времени рассматривается через призму разных отраслей гуманитарного знания (истории, педагогики, политологии, культурологии, философии, социологии, антропологии и др.). Данная особенность определяется в первую очередь тем, что школьная повседневность представляет совокупность многих элементов, ее составляющих, каждый из которых, как и показал наш анализ историографии, может быть объектом для изучения. Для формирования объемной картины советской школьной повседневности исследователям необходимо привлекать методологию и источниковую базу смежных научных дисциплин, использовать междисциплинарные связи.
Еще одна особенность историографии истории школьной повседневности – незначительное количество обобщающих, комплексных работ по советскому периоду, а также научных публикаций, написанных на основе региональных материалов. Современная историография школьной повседневности еще не представляет собой единого исследовательского поля. В исследованиях школьной повседневности есть вопросы, которые достаточно часто звучат в актуальной повестке, например: детская школьная повседневность, школьная повседневность в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., учительская повседневность, воспоминания учителей и воспоминания об учителях. Но остается еще ряд вопросов, которые требуют изучения в рамках советской школьной повседневности: особенности школьной повседневности в центре и регионах страны, союзных республиках; повседневность городской и сельской школы; повседневность администрации и учебно-вспомогательного персонала школы; проблемы межличностного взаимодействия в образовательном учреждении и т. д. Исследовать данные проблемы еще предстоит отечественным и зарубежным специалистам по истории повседневности.
Материалы исследования
Астафьев 2007 – Астафьев Д.А. Общеобразовательная школа Южного Урала в 1980–1990-е гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Астафьев Дмитрий Александрович. Оренбург, 2007. 234 с.
Ашенова 2018 – Ашенова К.К. Советское детство: повседневная жизнь детей Омска (1961–1980 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Ашенова Кымбат Кайсаровна. Тюмень, 2018. 263 с.
Богомолов 1990 – Богомолов И.А. Народное образование в условиях перестройки. Политика КПСС, ее опыт и реализация (на материалах Марийского, Мордовского и Чувашского республиканских партийных комитетов): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01 / Богомолов Иван Алексеевич. Москва, 1990. 18 с.
Дорошева 2003 – Дорошева О.А. Школьное образование на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Дорошева Ольга Александровна. Оренбург, 2003. 222 с.
Коренюк 2017 – Коренюк В.М. Повседневная жизнь детей военного и послевоенного времени: (по материалам Молотовской области): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Коренюк Валентина Михайловна. Омск, 2017. 293 с.
Кривцова 2009 – Кривцова Л.А. Подготовка учительских кадров в условиях социально-экономических преобразований второй половины XX – начала XXI в. (на материалах Южного Урала): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Кривцова Людмила Алексеевна. Астрахань, 2009. 245 с.
Лозинская 1987 – Лозинская Ж.М. Партийное руководство народным образованием в условиях в условиях осуществления реформы общеобразовательной и профессиональной школы: (на материалах ряда областных партийных организаций Нечерноземной зоны РСФСР): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Лозинская Жанна Михайловна. Москва, 1987. 25 с.
Маслинский 2017 – Маслинский К.А. Дисциплина в школьной повседневности 1950-х – 1980-х гг.: опыт социально-антропологического исследования (на материале российского малого города и села): дис. … канд. ист. наук: 07.00.07 / Маслинский Кирилл Александрович. Санкт-Петербург, 2017. 236 с.
Мезит 1989 – Мезит Л.Э. Партийное руководство развитием и укреплением общеобразовательной школы в десятой-одиннадцатой пятилетках (на материалах партийных организаций Красноярского края): ): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.01 / Мезит Людмила Эдгаровна. Москва, 1989. 24 с.
Перова 2021 – Перова М.А. Детская повседневность Советской России 1920-х гг. (на материалах Курганского и Шадринского округов): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Перова Марина Андреевна. Курган, 2021. 260 с.
Ромашова 2006 – Ромашова М.В. Советское детство в 1945 – середине 1950-х гг.: государственные проекты и провинциальные практики: (по материалам Молотовской области): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Ромашова Мария Владимировна. Пермь, 2006. 211 с.
Савельева 1990 – Савельева Е.В. Народное образование Нижнего Поволжья в X–XI пятилетках: (на материалах партийных, советских и общественных организаций Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей): автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Савельева Елена Викторовна. Москва, 1990. 17 с.
Шебетя 2003 – Шебетя И.А. Система школьного образования на Южном Урале в сер. 50 – 60-х гг. XX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Шебетя Ирина Анатольевна. Челябинск, 2003. 26 с.
About the authors
Dmitry A. Astafiev
Orenburg branch of Educational Institution of the Trade Unions of Higher Education«Academy of Labor and Social Relations»
Email: astafev25@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-8374-0498
Candidate of Historical Sciences, associate professor of the Department of Trade Union Movement, Humanitarian and Social and Economic Disciplines
Russian Federation, OrenburgE. V. Godovova
Orenburg State Pedagogical University
Author for correspondence.
Email: godovova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5798-3413
Doctor of Historical Sciences, associate professor, professor of the Department of History of Russia
Russian Federation, OrenburgReferences
- Ewing 2002 – Ewing E.T. The Teachers of Stalinism: Policy, Practice, and Power in Soviet Schools of the 1930s. By E. Thomas Ewing. History of Schools and Schooling, vol. 18. New York: Peter Lang Publishing, 2002. 333 p.
- Ewing 2009 – Ewing E.T. «If the Teacher were a Man»: Masculinity and Power in Stalinist Schools // Gender & History, 2009, no. 21 (1), pp. 107–129. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0424.2009.01537.x.
- Ewing 2010 – Ewing E.T. Separate Schools: Gender, Policy, and Practice in Postwar Soviet Education. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2010. 301 pp. DOI: http://doi.org/10.1515/9781501757563.
- Ewing 2016 – Ewing E.T. Maternity and Modernity: Soviet women teachers and the contradictions of Stalinism // Women's History Review, 2016, vol. 19, issue 3, pp. 451–477. DOI: http://doi.org/10.1080/09612025.2010.489355
- Fitzpatrick 2002 – Fitzpatrick S. Education and social mobility in the Soviet Union 1921–1934. Vol. 346. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 355 p. DOI: http://doi.org/10.1017/CBO9780511523595.
- Holmes 1999 – Holmes L.E. Stalin's school: Moscow's model school № 25, 1931–1937. Pittsburgh: University of Pittsburgh рress, 1999. 228 p.
- Holmes 2008 – Holmes L.E.Kirov’s School no. 9: Power, Privilege, and Excellence in the Provinces, 1933–1945. Kirov; Loban, 2008. Р. 101–103. DOI: http://doi.org/10.4000/histoire-education.2350.
- Holmes 2020 – Holmes L.E. A Host of Contradictions: State Compulsion and the Educational Experience of Soviet Russia’s Youth, 1931–1945 // European Education, 2020, vol. 52, no. 3, pp. 242–256. DOI: http://doi.org/10.1080/10564934.2020.1759100.
- Kelly 2007 – Kelly С. Children’s World. Growing up in Russia, 1890–1991. New Haven-Londres: Yale University Press, 2007. 714 p. URL: https://www.gla.ac.uk/0t4/crcees/files/summerschool/readings/Kelly_2007_ChildrensWorldGrowingUpInRussia 1890–1991.pdf.
- Kestere, Kalke 2018 – Kestere I., Kalke B. Controlling the Image of the Teacher's Body under Authoritarianism: The Case of Soviet Latvia (1953–1984) // Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 2018, vol. 54, no. 1–2, pp. 184–203. DOI: http://doi.org/10.1080/00309230.2017.1358289.
- Kirschenbaum 2001 – Kirschenbaum L.A. Small comrades: Revolutionizing childhood in Soviet Russia, 1917–1932. New York: RoutledgeFalmer, 2001. 242 p. DOI: http://doi.org/10.4324/9781315054704.
- Rahi-Tamm, Salēniece, 2016 – Rahi-Tamm A., Salēniece I. Re-educating teachers: ways and consequences of Sovietization in Estonia and Latvia (1940–1960) from the biographical perspective // Journal of Baltic Studies, 2016, no. 4, pp. 451−472. DOI: http://doi.org/10.1080/01629778.2016.1263035.
- Raili Jõesalu 2016 – Raili N., Jõesalu K.Narrating Surroundings and Suppression: The Role of School in Soviet Childhood Memories // European Education, 2016, vol. 48, no. 3, pp. 203–219. DOI: http://doi.org/10.1080/10564934.2016.1208051.
- Єфіменко 2010 – Єфіменко Г. Девіація та норма в житті вчителя напередодні «великого перелому» (на прикладі зі звільненням з роботи) // Краєзнавство. № 3. С. 81–86. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32058/12-Efymenko.pdf?sequence=1.
- Єфіменко 2012 – Єфіменко Г. Повсякденне життя вчительства. Українське радянське суспільство 30-х рр. XX ст.: нариси повсякденного життя: колективна монографія / відп. ред. С. В. Кульчицький. Київ: Інститут історії України НАН України, 2012. 786 с. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4063/jittia_2012_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Годованьска 2019 – Годованьска О. «Документальна оповидь» про повсякдення радяньских вчителiв // Народознавчі зошити. 2019. № 2 (146). С. 472–480. DOI: http://doi.org/10.15407/nz2019.02.472.
- Годованьска, Годованьский 2020 – Годованська О., Годованьский О. Будівництво помешкань для сільських вчителів (на основі архівних документів) // Historical and cultural studies. 2020. Vol. 7, №. 1. C. 29–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2020_7_1_8.
- Антропология… 2010 – Антропология советской школы: культурные универсалии и провинциальные практики: сборник статей. Пермь: Пермский государственный университет, 2010. 300 с. URL: https://www.rsuh.ru/binary/743103_80.1294010143.98506.pdf.
- Балашов 2003 – Балашов Е.М. Школа в российском обществе 1917–1927 гг.: Становление «нового человека». Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2003. 236 с.
- Бахтина 2021 – Бахтина И.Л. Общественная работа как характерная черта повседневности сельского учителя в 1920-е годы (на материалах Урала) // Историческая наука и историческое образование в условиях глобальных трансформаций: материалы XXV Всероссийских с международным участием историко-педагогических чтений (Екатеринбург, 23–26 марта 2021 года). Екатеринбург: [б.и.], 2021. С. 159–165. DOI: http://doi.org/10.12345/978-5-7186-1774-0_2021_25_25.
- Безрогов 2012 – Безрогов В.Г. Практики письма в начальной школе первых советских поколений // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2012. № 11 (91). С. 54–62. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18037730.
- Белова 2011 – Белова Н.А. Воспоминания как источник изучения повседневности советских учителей // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2011. Т. 17, № 1. С. 61–64. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17071999.
- Белова 2015 – Белова Н.А. Повседневная жизнь учителей. Москва: ИЭА РАН, 2015. 228 с. URL: http://static.iea.ras.ru/books/Belova_Everyday_Life_of_teachers.pdf.
- Гирева 1981 – Гирева Л.М. Партийный комитет и учитель. Москва: Политиздат, 1981. 128 с.
- Данилин 1980 – Данилин П.Д. Партийная забота о школе. Тула: Приокское книжное издательство, 1980. 89 с.
- Денисова 1988 – Денисова Л.Н. Всеобщее среднее образование и прогресс села. Москва: Наука, 1988. 172 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=30073848.
- Жукова 1986 – Жукова Ю.К. Реформа школы – в действии. Москва: Московский рабочий, 1986. 108 с.
- Зверев 2010 – Зверев В.А. Святое ремесло: подвижничество сельской школы в мемуарах новосибирских учителей // Сибирский педагогический журнал. 2010. № 4. С. 181–192. URL: https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/2943/1/svyatoe-remeslo-podvizhnichestvo.pdf.
- Зверев 2013 – Зверев В.А. Не труд, а отреченье. Педагогический быт 1960–1970-х годов в мемуарах сибирских учителей // Сибирский педагогический журнал. 2013. № 1. С. 37–43.URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18852390; https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/1150/1/ne-trud-a-otrechene-pedagogiches.pdf.
- Зубкова 1999 – Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность (1945–1953 гг.). Москва: РОССПЭН, 1999. 229 с. URL: https://docplayer.com/58983131-Elena-zubkova-poslevoennoe-sovetskoe-obshchestvo-politika-i-povsednevnost.html.
- Иванова 2018 – Иванова Г.М. Советская школа в 1950–1960-е годы. Москва: Фонд «Московское время», 2018. 432 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37150905.
- Карасев, Магсумов 2018 – Карасев Д.А., Магсумов Т.А. Административный и хозяйственный персонал школы в Советском кинематографе // Камский торговый путь: материалы II Всероссийской научно-практической конференции (Набережные Челны, 23 ноября 2018 года). Набережные Челны, Татарстан, Россия: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2018. С. 3–8. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42840536.
- Келли 2004 – Келли К. «Школьный вальс»: повседневная жизнь школы в послесталинское время // Антропологический форум. 2004. № 1. С. 104–155. URL: https://ecsocman.hse.ru/data/2012/04/19/1271939478/01_02_kelly.pdf.
- Козлова 2005 – Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. Москва: Европа, 2005. 526 с. URL: https://vk.com/wall-68638203_1886.
- Кондрашенков 1986 – Кондрашенков А.А. Руководство КПСС развитием общеобразовательной школы на современном этапе. Москва: Знание, 1986. 61 с.
- Конев 2017 – Конев Л.М. История российской общеобразовательной школы в императорской, советской, президентской России. Региональный аспект: монография. Челябинск: Издательство Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета, 2017. 368 с. URL: http://elib.cspu.ru/xmlui/handle/123456789/2084?show=full.
- Конструируя детское… 2011 – Конструируя детское: филология, история, антропология / Российский государственный гуманитарный университет, Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств, Illinois Wesleyan University, Российская академия образования, Институт теории и истории педагогики; под ред. М.Р. Балиной, В.Г. Безрогова, С.Г. Маслинской, К.А. Маслинского, М.В. Тендряковой, С. Шеридана. Москва: Азимут, 2011. 550 с. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20047562; https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/4zk1vy2wo3/direct/142303101.
- Кораблева 2001 – Кораблева Г.В. Опыт и уроки школьной политики в Российской Федерации в 1970–80-е гг. Москва: Издательство Московского педагогического государственного университета, 2001. 312 с.
- Коршунова, Мищенко 2019 – Коршунова Н.В., Мищенко А.Н. Забастовки начала 1990-х гг. Как аномалия повседневности постсоветского школьного учителя (на примере Челябинской области) // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2019. Т. 19, № 1. С. 22–26. DOI: http://doi.org/10.14529/ssh190104.
- Красовицкая 2020 – Красовицкая Т.Ю. Книга о лучшем периоде деятельности школы // Российская история. 2020. № 6. С. 156–160. DOI: http://doi.org/10.31857/S086956870012942-7.
- Кривошеев 1986 – Кривошеев В.Ф. Деятельность КПСС по развитию высшей школы в условиях совершенствования социализма. Москва: Педагогика, 1986. 205 с.
- Кудряшев 2020 – Кудряшев А.В. Жевательная резинка в контексте повседневности советских школьников (по материалам периодических изданий 1960–1970-х гг.) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2020. № 56. С. 57–73. DOI: http://doi.org/10.15382/sturIV202056.57-73.
- Кудряшев 2018 – Кудряшев А.В. Материалы газеты «Пионерская правда» второй половины ХХ века в реконструкции повседневности советских школьников // Поволжский педагогический поиск. 2018. № 4 (26). С. 37–46. DOI: http://doi.org/10.33065/2307-1052-2018-4-26-37-46.
- Куприянов, Кудряшев 2021 – Куприянов Б.В., Кудряшев А.В. Борьба советских пионеров с хулиганами по материалам «Пионерской правды» 1950-х – 1960-х гг. // История. 2021. Т. 12, № 4 (102). DOI: http://doi.org/10.18254/S207987840014386-3.
- Лебина 2006 – Лебина Н.Б. Энциклопедия банальностей: Советская повседневность: Контуры, символы, знаки. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2006. 442 с. URL: https://vk.com/wall-176345677_11771.
- Леднев 1985 – Леднев В.П. Деятельность КПСС по подготовке и воспитанию учительских кадров РСФСР в условиях развитого социализма. Свердловск: Издательство Свердловского государственного университета, 1985. 284 с.
- Любичанковский 2012 – Любичанковский С.В. Проблема определения субъекта повседневности в историческом исследовании // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 3. С. 150–153. URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2012/2012_3_150_153.pdf; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17962652.
- Ляшок 2013 – Ляшок А.С. «Дети перестройки»: жизненные миры школьников 1980-х – 1990-х годов // Вестник Пермского университета. История. 2013. № 2 (22). С. 148–155. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20308282.
- Ляшок 2011 – Ляшок А.С. К вопросу о конструировании «повседневности мальчиков» и «повседневности девочек» в пространстве школы 1980-х – первой половины 1990-х гг. // Теория и практика общественного развития. 2011. № 8. С. 119–124. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17749241.
- Майофис 2019 – Майофис М.Л. Презумпция единообразия (Рец. на кн. Иванова Г.М. Советская школа в 1950–1960-е гг. Москва: 2018) // Новое литературное обозрение. 2019. № 5. С. 365–370. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2019/5/prezumpcziya-edinoobraziya.html; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902388.
- Макарова 2020 – Макарова Н.Н. Эмоциональное сообщество и повседневная жизнь учителей Магнитогорска (1929–1941 годы) // Новейшая история России. 2020. Т. 10, № 1. С. 168–182. DOI: http://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2020.111.
- Михащенко 1995 а – Михащенко А.Л. Общеобразовательная школа и педагогическая мысль Южного Зауралья (1917–1990 гг.): монографическое исследование. Курган: Курганская городская типография, 1995. Ч. 1. 110 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30696942.
- Михащенко 1995 б – Михащенко А.Л. Общеобразовательная школа и педагогическая мысль Южного Зауралья (1917–1990 гг.): монографическое исследование; Государственный комитет РФ по высшему образованию Департамент гуманитарной сферы и социальной политики Администрации Курганской области Курганский государственный университет. Курган: Курганская городская типография, 1995. Ч. 2. 134 с.
- Мясников, Хроменков 1981 – Мясников В.А., Хроменков Н.А. От съезда к съезду. Народное образование: итоги и перспективы. Москва: Педагогика, 1981. 167 с.
- Обсуждение статьи… 2006 – Обсуждение статьи Катрионы Келли «Школьный вальс» // Антропологический форум. 2006. № 4. С. 6–107. URL: https://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/004/04_01_forum_k.pdf; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11990709.
- Орлов 2010 – Орлов И.Б. Советская повседневность: исторический и социологический аспекты. Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2010. 317 c. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28795662.
- Подобед, Кричевский 1986 – Подобед В.И., Кричевский В.И. Реформа школы в действии. Ленинград: Знание, 1986. 32 с.
- Протасова 2019 – Протасова Е.В. Подвижничество уральских учителей: историко-педагогический анализ личных архивных фондов // Образование, инновации, исследования как ресурс развития сообщества (Чебоксары, 10 июня 2019 года): сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Чувашский республиканский институт образования Минобразования Чувашии. Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Среда», 2019. С. 217–221. DOI: http://doi.org/10.31483/r-32992.
- Протасова 2018 – Протасова Е.В. Региональная история учительства в личных фондах уральских учителей (на материале 1920–1930-х годов) // Научный диалог. 2018. № 10. С. 313–325. DOI: http://doi.org/10.24224/2227-1295-2018-10-313-325.
- Пушкарева 2008 – Пушкарева Н.Л. Предмет и методы изучения истории повседневности // Социальная история. 2007. Ежегодник / Центр социальной истории Института всеобщей истории РАН, Центр экономической истории, исторический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Российская ассоциация исследователей женской истории. Москва: Издательство «Российская политическая энциклопедия», 2008. С. 9–21. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21339954.
- Пушкарева, Любичанковский 2019 – Пушкарева Н.Л., Любичанковский С.В. «История повседневности» в современном историческом исследовании // Гендер в фокусе антропологии, этнографии семьи и социальной истории повседневности. Москва: Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 2019. С. 239–248. URL: http://static.iea.ras.ru/news/Gender_v_focuse_antropologii.pdf.
- Рожков 2011 – Рожков А.Ю. «Кровный союз» в краснодарской школе: практики коллективной идентичности учащихся 1920-х годов // Культурная жизнь Юга России. 2011. № 4 (42). С. 107–110. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17104983.
- Рожков 2016 – Рожков А.Ю. В кругу сверстников. Жизненный мир молодого человека в Советской России 1920-х гг. 2-е изд. Москва: Новое литературное обозрение, 2016. 630 с. URL: https://vk.com/doc-23433303_457245785?hash=0cf150a2b5002a4996&dl=dd0f947b4142e8bdcb.
- Рожков 2017 а – Рожков А.Ю. Альбомная культура школьников в 1920–1930-е годы: традиции и новации // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9, № 6–2. С. 121–125. DOI: http://doi.org/10.17748/ 2075-9908-2017-9-6/2-121-125.
- Рожков 2017 б – Рожков А.Ю. Визуальные образы «советскости» в школьном букваре 1920–1930-х гг.: контент, структура, динамика // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. 2017. № 45. С. 57–72. DOI: http://doi.org/10.15382/sturIV201745.57-72.
- Рожков 2017 в – Рожков А.Ю. Читая «Дневник Кости Рябцева»: школьная действительность 1920-х гг. глазами историка // Детские чтения. 2017. Т. 12, № 2. С. 298–324. URL: http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/article/view/287.
- Ромашова 2015 – Ромашова М.В. История детства и история педагогики: к вопросу о междисциплинарном взаимодействии // Культурно-историческое наследие как фактор устойчивого развития территории (Соликамск, 19 – 20 ноября 2015 года): материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / Пермский государственный национальный исследовательский университет, Соликамский государственный педагогический институт (филиал); сост.: Г.А. Лебедева, В.В. Дементьева. Соликамск: Соликамский государственный педагогический институт, 2015. С. 139–142. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28419418.
- Руснак 1981 – Руснак Г.Е. В партийном руководстве – залог успеха. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1981. 158 с.
- Руткевич, Рубина 1988 – Руткевич М.Н., Рубина Л.Я. Общественные потребности, система образования, молодежь. Москва: Педагогика, 1988. 137 с. URL: https://naukaprava.ru/catalog/435/5030/557796/71466.
- Сальникова 2007 – Сальникова А.А. Российское детство в XX в.: история, теория и практика. Казань: Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина, 2007. 256 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20006739.
- Сидорова 2012 – Сидорова Г.П. Ценность профессии учителя в советской культуре и ее отражение в массовом искусстве 1960–1980-х // NB: Педагогика и просвещение. 2012. № 1. С. 147–157. URL: https://e-notabene.ru/pp/article_49.html; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18216220.
- Смирнова 2015 – Смирнова Т.М. Дети страны Советов: от государственной политики к реалиям повседневной жизни. 1917–1940 гг. Москва; Санкт-Петербург: Институт Российской истории РАН, Центр гуманитарных инициатив, 2015. 384 с. URL: http://ebookiriran.ru/userfiles/file/Smirniva_Children_2015.pdf.
- Смирнова 2020 – Смирнова Т.М. История общества сквозь призму истории школьной повседневности // Российская история. 2020. № 6. С. 161–165. DOI: http://doi.org/10.31857/S086956870012944-9.
- Стасюк, Годованьска 2019 – Стасюк І., Годованьска О. Дозвілля радянських сільських вчителів у Галичині. // Гілея: науковий вісник2019. Вип. 150 (1), № 11. С. 121–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_150(1)__25
- Теплова 2018 – Теплова Е.Ф. Анекдоты о школе как элемент антропологии советского образования // Этнодиалоги. 2018. № 1 (55). С. 169–176. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34904951.
- Теплова 2017 – Теплова Е.Ф. Символ советской школы // Этнодиалоги. 2017. № 2 (53). С. 135–141. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/simvol-sovetskoy-shkoly; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30354465.
- Тихонов 2020 – Тихонов В.В. Идущие вслед исследователи не смогут обойти эту книгу // Российская история. 2020. № 6. С. 171–173. DOI http://doi.org/10.31857/S086956870012947-2.
- Уваров 2000 – Уваров Д.И. Как это было (из истории народного образования Курганской области послевоенного периода. Люди, цифры, факты). Курган: Издательство Курганского государственного университета, 2000. 191 с.
- Федченко 2014 – Федченко М.Н. Культура и быт молодежи Урала (1945–1960 гг.): монография. Курган: Издательство курганского государственного университета, 2014. 246 с. URL: http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3779/Федченко-МН_2014_МГ.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Хисамутдинова 2021 – Хисамутдинова Р.Р. Школьная и досуговая повседневность сельских детей в Чкаловской области в годы Великой Отечественной войны (на материалах воспоминаний) // «Вызов» в повседневной жизни населения России: история и современность (Санкт-Петербург, 01–03 апреля 2021 года): материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2021. С. 220–225.URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45424752
- Хроменков 1989 – Хроменков Н.А. Образование. Человеческий фактор. Общественный прогресс. Москва: Педагогика, 1989. 192 с.
- Худоминский 1986 – Худоминский П.В. Развитие системы повышения квалификации педагогических кадров советской общеобразовательной школы (1917–1981 гг.). Москва: Педагогика, 1986. 182 с.
- Чащухин 2011 – Чащухин А.В. Школьный учитель в эпоху позднего сталинизма как агент репрессивной политики // История сталинизма: репрессированная российская провинция: материалы международной научной конференции. Смоленск, 9–11 октября 2009. Москва: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. С. 390–399. URL: https://publications.hse.ru/chapters/76784456.
- Чащухин 2012 – Чащухин А.В. «Вынужден защищаться теми методами, какие мне достаются» // Отечественные записки. 2012. № 1 (46). С. 319–328. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19422961; https://publications.hse.ru/articles/66851072.
- Чащухин, Реброва 2013 – Чащухин А.В., Реброва И.В. «Человеку с прекрасной душой». Идентичность советского учителя в зеркале собственной биографии // Социальная история: ежегодник. 2012. Санкт-Петербург: Алетейя, 2013. С. 196–223. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135935&lang=ru.
- Шамсутдинов 2013 – Шамсутдинов Д.З. Повседневная жизнь советского учителя в 1960–1970-е гг. (по материалам ТАССР) // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2013. № 4–2. С. 110–113. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21381262.
- Шевцова 2017 – Шевцова А.А. Советская и российская школа в зеркале карикатуры: визуальный ряд // Современное образование: векторы развития. Роль социогуманитарного знания в формировании духовно-нравственной культуры выпускника педагогического вуза (Москва, 20–21 апреля 2017 года): материалы международной научной конференции. Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017. С. 656–668. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32868555.
- Юинг 2011 – Юинг Е.Т. «Учителя эпохи сталинизма: власть, политика и жизнь школы 1930-х гг.; пер с англ. Д.А. Благова. Москва: РОССПЭН; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. 359 с. URL: https://royallib.com/book/yuing_e_tomas/uchitelya_epohi_stalinizma_vlast_politika_i_gizn_shkoli_1930h_gg.html.
- Явнова 2019 – Явнова Л.А. Образ учителя в контексте государственной политики (по материалам письменных и устных этнографических источников) // История и культура народов Юго-Западной Сибири и сопредельных регионов (Казахстан, Монголия, Китай) (Горно-Алтайск, 16–18 сентября 2019 года): материалы международной научно-практической конференции. Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный университет, 2019. С. 352–362. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41328556.
- References
- Ewing 2002 – Ewing E.T. (2002) The Teachers of Stalinism: Policy, Practice, and Power in Soviet Schools of the 1930s. By E. Thomas Ewing. History of Schools and Schooling, vol. 18. New York: Peter Lang Publishing, 333 p.
- Ewing 2009 – Ewing E.T. (2009) «If the Teacher were a Man»: Masculinity and Power in Stalinist Schools. Gender & History, no. 21 (1), pp. 107–129. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0424.2009.01537.x.
- Ewing 2010 – Ewing E.T. (2010) Separate Schools: Gender, Policy, and Practice in Postwar Soviet Education. DeKalb: Northern Illinois University Press, 301 pp. DOI: http://doi.org/10.1515/9781501757563.
- Ewing 2016 – Ewing E.T. (2016) Maternity and Modernity: Soviet women teachers and the contradictions of Stalinism. Women's History Review, vol. 19, issue 3, pp. 451–477. DOI: http://doi.org/10.1080/09612025.2010.489355
- Fitzpatrick 2002 – Fitzpatrick S. (2002) Education and social mobility in the Soviet Union 1921–1934. Vol. 346. Cambridge: Cambridge University Press, 355 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511523595.
- Holmes 1999 – Holmes L.E. (1999) Stalin's school: Moscow's model school № 25, 1931–1937. Pittsburgh: University of Pittsburgh рress, 228 p.
- Holmes 2008 – Holmes L.E. (2008) Kirov’s School no. 9: Power, Privilege, and Excellence in the Provinces, 1933–1945. Kirov; Loban, pp. 101–103. DOI: https://doi.org/10.4000/histoire-education.2350
- Holmes 2020 – Holmes L.E. (2020) A Host of Contradictions: State Compulsion and the Educational Experience of Soviet Russia’s Youth, 1931–1945. European Education, vol. 52, issue 3, pp. 242–256. DOI: http://doi.org/10.1080/10564934.2020.1759100.
- Kelly 2007 – Kelly С. (2007) Children’s World. Growing up in Russia, 1890–1991. New Haven-Londres: Yale University Press, 714 p. Available at: https://www.gla.ac.uk/0t4/crcees/files/summerschool/readings/Kelly_2007_ChildrensWorldGrowingUpInRussia 1890–1991.pdf.
- Kestere, Kalke 2018 – Kestere I., Kalke B. (2018) Controlling the Image of the Teacher's Body under Authoritarianism: The Case of Soviet Latvia (1953–1984). Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, vol. 54, no. 1–2, pp. 184–203. DOI: https://doi.org/10.1080/00309230.2017.1358289.
- Kirschenbaum 2001 – Kirschenbaum L.A. (2001) Small comrades: Revolutionizing childhood in Soviet Russia, 1917–1932. New York: RoutledgeFalmer, 242 p. DOI: http://doi.org/10.4324/9781315054704.
- Rahi-Tamm, Salēniece, 2016 – Rahi-Tamm A., Salēniece I. (2016) Re-educating teachers: ways and consequences of Sovietization in Estonia and Latvia (1940–1960) from the biographical perspective. Journal of Baltic Studies, vol. 47, issue 4, pp. 451−472. DOI: http://doi.org/10.1080/01629778.2016.1263035.
- Raili, Jõesalu 2016 – Raili N., Jõesalu K. (2016) Narrating Surroundings and Suppression: The Role of School in Soviet Childhood Memories. European Education, vol. 48, no. 3, pp. 203–219. DOI: http://doi.org/10.1080/10564934.2016.1208051.
- Efymenko – Efymenko G. (2010). Deviation and norm in life of teacher on the eve of «Large terror» (on an example with a discharge from work). Kraieznavstvo = Local Lore Studies, no. 3, pp. 81–86. Available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32058/12-Efymenko.pdf?sequence=1. (In Ukrainian)
- Efymenko – Efymenko G. (2012). Everyday life of teaching. The Ukrainian Soviet society of the 1930-ies. Essays on everyday life: multi-authored monograph. Kyiv: Іnstitut іstorії Ukraїni NAN Ukraїni, 786 p. Available at: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4063/jittia_2012_2.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (In Ukrainian)
- Hodovanska 2019 – Hodovanska O. (2019) «Documentary survey» the everyday life of Soviet teachers. The Ethnology Notebooks, no. 2 (146), pp. 472–480. DOI: http://doi.org/10.15407/nz2019.02.472. (In Ukrainian)
- Hodovanska, Hodovanskyi 2020 – Hodovanska O, Hodovanskyi O. (2020) The residential buildings of village teachers (on the basis of archival documents). Historical and Cultural Studies, vol. 7, no. 1, pp. 29–33. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hcs_2020_7_1_8. (In Ukrainian)
- Anthropology... 2010 – Anthropology of the Soviet school: cultural universals and provincial practices: collection of articles. Perm: Permskii gosudarstvennyi universitet, 300 p. Available at: https://www.rsuh.ru/binary/743103_80.1294010143.98506.pdf. (In Russ.)
- Balashov 2003 – Balashov E.M. (2003) School in Russian society of 1917–1927: Formation of the «new man». Saint Petersburg: Dmitrii Bulanin, 236 p. (In Russ.)
- Bakhtina 2021 – Bakhtina I.L. (2021) Social work as a characteristic feature of the everyday of a rural teacher in the 1920s (on the materials of the Urals) In: Historical science and historical education in the context of global transformations: materials of the XXV all-Russian historical and pedagogical readings with international participation, Yekaterinburg, March 23–26, 2021. Yekaterinburg: [b.i.], pp. 159–165. DOI: https://doi.org/10.54351/978-5-7186-1774-0_2021_25_25. (In Russ.)
- Bezrogov 2012 – Bezrogov V.G. (2012) The practices of writing in the primary school of the first Soviet generations. RSUH/RGGU Bulletin. «Philosophy. Sociology. Art Studies» Series, no. 11 (91), pp. 54–62. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18037730. (In Russ.)
- Belova 2011 – Belova N.A. (2011) Memoirs as source of research of everyday life of Soviet teachers. Vestnik of Kostroma State University, vol. 17, no. 1, pp. 61–64. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17071999 (In Russ.)
- Belova 2015 – Belova N.A. (2015) Everyday life of teachers. Moscow: IEA RAN, 228 p. Available at: http://static.iea.ras.ru/books/Belova_Everyday_Life_of_teachers.pdf. (In Russ.)
- Gireva 1981 – Gireva L.M. (1981) Party committee and teacher. Moscow: Politizdat, 128 p. (In Russ.)
- Danilin 1980 – Danilin P.D. (1980) Party care of the school. Tula: Priokskoe knizhnoe izdatel'stvo, 89 p. (In Russ.)
- Denisova 1988 – Denisova L.N. (1988) General secondary education and rural progress. Moscow: Nauka, 172 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=30073848. (In Russ.)
- Zhukova 1986 – Zhukova Yu.K. (1986) School reform in action. Moscow: Moskovskii rabochii, 108 p. (In Russ.)
- Zverev 2010 – Zverev V.A. (2010) Sacred occupation: selfless devotion of village school in memoirs of Novosibirsk teachers. Siberian Pedagogical Journal, no. 4, pp. 181–192. Available at: https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/2943/1/svyatoe-remeslo-podvizhnichestvo.pdf. (In Russ.)
- Zverev 2013 – Zverev V.A. (2013) Not labor, but renunciation. Pedagogical way of life in 1960–1970 in memoirs of Siberian teachers. Siberian Pedagogical Journal, no. 1, pp. 37–43. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18852390; https://repo.nspu.ru/bitstream/nspu/1150/1/ne-trud-a-otrechene-pedagogiches.pdf. (In Russ.)
- Zubkova 1999 – Zubkova E.Yu. (1999) Post-war Soviet society: politics and everyday life (1945–1953). Moscow: ROSSPEN, 229 p. Available at: https://docplayer.com/58983131-Elena-zubkova-poslevoennoe-sovetskoe-obshchestvo-politika-i-povsednevnost.html. (In Russ.)
- Ivanova 2018 – Ivanova G.M. (2018) Soviet school in the 1950–1960-ies. Moscow: Fond «Moskovskoe vremya», 432 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=37150905. (In Russ.)
- Karasev, Magsumov 2018 – Karasev D.A., Magsumov T.A. (2018) Administrative and economic staff of the school in Soviet cinema. In: Kama trade route: Materials of the II All-Russian research and practical conference, Naberezhnye Chelny, November 23, 2018. Naberezhnye Chelny, Tatarstan, Russia: Naberezhnochelninskii gosudarstvennyi pedagogicheskii universitet, pp. 3–8. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42840536. (In Russ.)
- Kelly 2004 – Kelly K. (2004) «School waltz»: daily school life in post-Stalinist time. Forum for Anthropology and Culture, no. 1, pp. 104–155. Available at: https://ecsocman.hse.ru/data/2012/04/19/1271939478/01_02_kelly.pdf. (In Russ.)
- Kozlova 2005 – Kozlova N.N. (2005) Soviet people. Scenes from history. Moscow: Evropa, 526 p. Available at: https://vk.com/wall-68638203_1886. (In Russ.)
- Kondrashenkov 1986 – Kondrashenkov A.A. (1986) Leadership of the CPSU in the development of general education schools at the present stage. Moscow: Znanie, 61 p. (In Russ.)
- Konev 2017 – Konev L.M. (2017) The history of the Russian secondary school in imperial, Soviet, presidential Russia. Regional aspect: monograph. Chelyabinsk: Izdatel'stvo Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta, 368 p. Available at: http://elib.cspu.ru/xmlui/handle/123456789/2084?show=full. (In Russ.)
- Constructing children's... 2011 – Balina M.R., Bezrogov V.G., Maslinskaya S.G., Maslinsky K.A., Tendryakova M.V., Sheridan S. (Eds.) (2011) Constructing children's: philology, history, anthropology. Moscow: Azimut, 550 p. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=20047562; https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/4zk1vy2wo3/direct/142303101. (In Russ.)
- Korableva 2001 – Korableva G.V. (2001) The experience and lessons of school politics in the Russian Federation in the 1970-ies – 80-ies. Moscow: Izdatel'stvo Moskovskogo pedagogicheskogo gosudarstvennogo universiteta, 312 p. (In Russ.)
- Korshunova, Mishchenko 2019 – Korshunova N.V., Mishchenko A.N. (2019) Strike: an anomaly of post-Soviet school teacher's everyday routine (a case study of Chelyabinsk region). Bulletin of the South Ural State University. Ser. Social Sciences and the Humanities, vol. 19, no. 1, pp. 22–26. DOI: http://doi.org/10.14529/ssh190104. (In Russ.)
- Krasovitskaya 2020 – Krasovitskaya T.Yu. (2020) A book about the Soviet school's best years. Russian history, no. 6, pp. 156–160. DOI: http://doi.org/10.31857/S086956870012942-7. (In Russ.)
- Krivosheev 1986 – Krivosheev V.F. (1986) The activities of the CPSU for the development of higher education in the context of improving socialism. Moscow: Pedagogika, 205 p. (In Russ.)
- Kudryashev 2020 – Kudryashev A.V. (2020) Chewing Gum in Context of Everyday Life of Soviet Schoolchildren (on materials of periodicals of the 1960s–1970s). Vestnik Pravoslavnogo Sviato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia IV: Pedagogika. Psikhologiia = St. Tikhon's University Review. Series IV: Pedagogy. Psychology, no. 56, pp. 57–73. DOI: http://doi.org/10.15382/sturIV202056.57-73. (In Russ.)
- Kudriashev 2018 – Kudriashev A.V. (2018) Newspaper «Pionerskaia Pravda» and Reconstruction of the Everyday Life of Soviet Schoolchildren. Volga Region Pedagogical Search, no. 4 (26), pp. 37–46. DOI: http://doi.org/10.33065/2307-1052-2018-4-26-37-46. (In Russ.)
- Kupriyanov, Kudryashev 2021 – Kupriyanov B.V., Kudryashev A.V. (2021) Struggle of Soviet Pioneers with Hooligans on the Materials of «Pionerskaya Pravda» in 1950s – 1960s. Istoriya (History), vol. 12, no. 4 (102). DOI: http://doi.org/10.18254/S207987840014386-3. (In Russ.)
- Lebina 2006 – Lebina N.B. (2006) Encyclopedia of platitudes: Soviet everyday life: Outlines, symbols, signs. Saint Petersburg: Dmitrii Bulanin, 442 p. Available at: https://vk.com/wall-176345677_11771. (In Russ.)
- Lednev 1985 – Lednev V.P. (1985) The activities of the CPSU for the training and education of teachers in the RSFSR in the conditions of developed socialism. Sverdlovsk: Izdatel'stvo Sverdlovskogo gosudarstvennogo universiteta, 284 p. (In Russ.)
- Lyubichankovsky 2012 – Lyubichankovskiy S.V. (2012) Problem of definition of the subject of daily occurence in historical research. Izvestia of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, vol. 14, no. 3, pp. 150–153. Available at: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2012/2012_3_150_153.pdf; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17962652. (In Russ.)
- Lyashok 2013 – Lyashok A.S. (2013) «Children of Perestroika»: life-worlds of schoolchildren in the 1980–1990s. Perm University Herald. History, no. 2 (22), pp. 148–155. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20308282. (In Russ.)
- Lyashok 2011 – Lyashok A.S. (2011) To the question of construction of boys' everyday life and girls' everyday life in school space of 1980s – the first half of the 1990s. Theory and practice of social development, no. 8, pp. 119–124. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17749241. (In Russ.)
- Mayofis 2019 – Mayofis M.L. (2019) The presumption of uniformity (Review of Galina Ivanova's book Sovetskaya shkola v 1950–1960-ye gody, fond Moskovskoye vremya, 2018). Novoe literaturnoe obozrenie, no. 5, pp. 365–370. Available at: https://magazines.gorky.media/nlo/2019/5/prezumpcziya-edinoobraziya.html; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42902388. (In Russ.)
- Makarova 2020 – Makarova N.N. (2020) Emotional Community and Everyday Life of the Teachers of Magnitogorsk (1929–1941). Modern History of Russia, vol. 10, no. 1, pp. 168–182. DOI: http://doi.org/10.21638/11701/spbu24.2020.111. (In Russ.)
- Mikhashchenko 1995 a – Mikhashchenko A.L. (1995 a) General education school and pedagogical thought of the Southern Trans-Urals (1917–1990): monographic research. Kurgan: Kurganskaya gorodskaya tipografiya, Part 1, 110 p. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30696942. (In Russ.)
- Mikhashchenko 1995 b – Mikhashchenko A.L. (1995 b) General education school and pedagogical thought of the Southern Trans-Urals (1917–1990): monographic research. Kurgan: Kurganskaya gorodskaya tipografiya, Part 2, 134 p. (In Russ.)
- Myasnikov, Khromenkov 1981 – Myasnikov V.A., Khromenkov N.A. (1981) From congress to congress. Public education: results and prospects. Moscow: Pedagogika, 167 p. (In Russ.)
- Discussion of the article... 2006 – Discussion of the article by Katriona Kelly «School Waltz». Forum for Anthropology and Culture, no. 4, pp. 6–107. Available at: https://anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/004/04_01_forum_k.pdf; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=11990709. (In Russ.)
- Orlov 2010 – Orlov I.B. (2010) Soviet everyday life: historical and sociological aspects. Moscow: Izdatel'skii dom Vysshei shkoly ekonomiki, 317 p. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28795662. (In Russ.)
- Podobed, Krichevsky 1986 – Podobed V.I., Krichevsky V.I. (1986) School reform in action. Leningrad: Znanie, 32 p. (In Russ.)
- Protasova 2019 – Protasova E.V. (2019) Asceticism of Ural teachers: historical and pedagogical analysis of personal archival funds. In: Education, innovation, research as a resource for community development: collection of materials from the All-Russian research and practical conference with international participation, Cheboksary, June 10, 2019. Cheboksary: Obshchestvo s ogranichennoi otvetstvennost'yu «Izdatel'skii dom «Sreda», pp. 217–221. DOI: http://doi.org/10.31483/r-32992. (In Russ.)
- Protasova 2018 – Protasova E.V. (2018) Regional history of teaching in personal funds of Ural teachers (on material of 1920–1930-ies). Nauchnyi dialog = Scientific Dialogue, no. 10, pp. 313–325. DOI: http://doi.org/10.24224/2227-1295-2018-10-313–325. (In Russ.)
- Pushkareva 2008 – Pushkareva N.L. (2008) Subject and methods of studying the history of everyday life. In: Social history. 2007. Yearbook. Moscow: Russian Political Encyclopedia Publishing House, pp. 9–21. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21339954. (In Russ.)
- Pushkareva 2019 – Pushkareva N.L., Lyubichankovsky S.V. (2019) «History of Everyday Life» in contemporary historical research. In: Gender in the focus of anthropology, ethnography of the family and social history of everyday life. Moscow: Institut etnologii i antropologii im. N.N. Miklukho-Maklaya RAN, pp. 239–248. Available at: http://static.iea.ras.ru/news/Gender_v_focuse_antropologii.pdf. (In Russ.)
- Rozhkov 2011 – Rozhkov A.Yu. (2011) «Blood union» in Krasnodar school: practices of collective identity of students in the 1920s. Cultural Studies of Russian South, no. 4 (42), pp. 107–110. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17104983. (In Russ.)
- Rozhkov 2016 – Rozhkov A.Yu. (2016) In the circle of peers. Lifeworld of a young man in Soviet Russia in the 1920-ies. 2nd edition. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 630 p. Available at: https://vk.com/doc-23433303_457245785?hash=0cf150a2b5002a4996&dl=dd0f947b4142e8bdcb. (In Russ.)
- Rozhkov 2017 а – Rozhkov A.Yu. (2017 a) Album culture of schoolchildren in the 1920–1930s: traditions and innovations. Historical and Social-Educational Idea, vol. 9, no. 6–2, pp. 121–125. DOI: http://doi.org/10.17748/2075-9908-2017-9-6/2-121-125. (In Russ.)
- Rozhkov 2017 b – Rozhkov A.Yu. (2017 b) Visual Images of «Sovietness» in ABC Book of 1920s–1930s: Content, Structure, Dynamics. St. Tikhon's University Review. Series IV: Pedagogy. Psychology, vol. 45, pp. 57–72. DOI: http://doi.org/10.15382/sturIV201745.57-72. (In Russ.)
- Rozhkov 2017 v – Rozhkov A.Yu. (2017 v) Kostya Ryabtsev's Diary: 1920s School Reality from a Point of View of a Historian. Children's Readings: Studies in Children's Literature, vol. 12, no. 2, pp. 298–324. Available at: http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal/article/view/287. (In Russ.)
- Romashova 2015 – Romashova M.V. (2015) History of childhood and history of education: on the interdisciplinary interactions. In: Lebedeva G.A., Dementieva V.V. (Eds.) Cultural and historical heritage as a factor of sustainable development of the territory: materials of the All-Russian research and practical conference with international participation, Solikamsk, November 19–20, 2015. Solikamsk: Solikamskii gosudarstvennyi pedagogicheskii institut, pp. 139–142. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=28419418. (In Russ.)
- Rusnak 1981 – Rusnak G.E. (1981) In the party leadership – the key to success. Chisinau: Kartya Moldovenyaske, 158 p. (In Russ.)
- Rutkevich, Rubina 1988 – Rutkevich M.N., Rubina L.Ya. (1988) Social needs, education system, youth. Moscow: Pedagogika, 137 p. Available at: https://naukaprava.ru/catalog/435/5030/557796/71466. (In Russ.)
- Salnikova 2007 – Salnikova A.A. (2007) Russian childhood in the XX century: history, theory and practice. Kazan: Kazanskii gosudarstvennyi universitet imeni V.I. Ul'yanova-Lenina, 256 p. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20006739. (In Russ.)
- Sidorova 2012 – Sidorova G.P. (2012) The value of the teaching profession in Soviet culture and its reflection in the mass art of the 1960s – 1980s. NB: Pedagogy and education, no. 1, pp. 147–157. Available at: https://e-notabene.ru/pp/article_49.html; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18216220 (In Russ.)
- Smirnova 2015 – Smirnova T.M. (2015) Children of the land of Soviets: from state policy to the realities of everyday life. 1917–1940. Moscow; Saint Petersburg: Institut Rossiiskoi istorii RAN, Tsentr gumanitarnykh initsiativ, 384 p. Available at: http://ebookiriran.ru/userfiles/file/Smirniva_Children_2015.pdf. (In Russ.)
- Smirnova 2020 – Smirnova T.M. (2020) Soviet society through the prism of the school's everyday history. Russian history, no. 6, pp. 161–165. DOI: http://doi.org/10.31857/S086956870012944-9. (In Russ.)
- Stasyuk, Hodovanska 2019 – Stasyuk I., Hodovanska O. (2019) Leisure time by soviet village teachers in Halychyna. Gіleya: naukovii vіsnik, issue 150 (1), no. 11, pp. 121–125. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_150(1)__25. (In Ukrainian)
- Teplova 2018 – Teplova E.F. (2018) Jokes about school as an element of Soviet education anthropology. Etnodialogi, no. 1 (55), pp. 169–176. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=34904951. (In Russ.)
- Teplova 2017 – Teplova E.F. (2017) The Soviet school symbol. Etnodialogi, no. 2 (53), pp. 135–141. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/simvol-sovetskoy-shkoly; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30354465. (In Russ.)
- Tikhonov 2020 – Tikhonov V.V. (2020) Future researchers will have to consider this book. Russian history, no. 6, pp. 171–173. DOI: http://doi.org/10.31857/S086956870012947-2. (In Russ.)
- Uvarov 2000 – Uvarov D.I. (2000) How it was (from the history of public education of the Kurgan region of the post-war period. People, figures, facts). Kurgan: Izdatel'stvo Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta, 191 p. (In Russ.)
- Fedchenko 2014 – Fedchenko M.N. Culture and everyday life of the youth of the Urals (1945–1960): monograph. Kurgan: Izdatel'stvo Kurganskogo gosudarstvennogo universiteta, 246 p. Available at: http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3779/Федченко-МН_2014_МГ.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (In Russ.)
- Khisamutdinova 2021 – Khisamutdinova R.R. (2021) School and leisure everyday life of rural children in the Chkalovsk region during the Great Patriotic War (based on memoirs). In: «Challenge» in the everyday life of the population of Russia: history and modernity: materials of an international scientific conference, Saint Petersburg, April 01–03, 2021. Saint Petersburg: Leningradskii gosudarstvennyi universitet imeni A.S. Pushkina, pp. 220–225. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45424752. (In Russ.)
- Khromenkov 1989 – Khromenkov N.A. (1989) Education. Human factor. Social progress. Moscow: Pedagogika, 192 p. (In Russ.)
- Khudominskiy 1986 – Khudominskiy P.V. (1986) Development of the system of advanced training of pedagogical personnel of the Soviet general education school (1917–1981). Moscow: Pedagogika, 182 p. (In Russ.)
- Chashchukhin 2011 – Chashchukhin A.V. (2011) A school teacher in the era of late Stalinism as an agent of repressive politics. In: History of Stalinism: a repressed Russian province: materials of the international scientific conference. Smolensk, October 9–11, 2009. Moscow: ROSSPEN; Fond «Prezidentskii tsentr B.N. El'tsina», 2011, pp. 390–399. Available at: https://publications.hse.ru/chapters/76784456. (In Russ.)
- Chashchukhin 2012 – Chashchukhin A.V. (2012) «I am forced to defend myself by the methods that come my way». Otechestvennye Zapiski, no. 1 (46), pp. 319–328. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19422961; https://publications.hse.ru/articles/66851072. (In Russ.)
- Chashchukhin, Rebrova 2013 – Chashchukhin A.V., Rebrova I.V. (2013) «To a man with a wonderful soul». Identity of the Soviet teacher in the mirror of his own biography. Social History: Yearbook. Saint Petersburg: Aleteiya, pp. 196–223. Available at: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135935&lang=ru. (In Russ.)
- Shamsutdinov 2013 – Shamsutdinov D.Z. (2013) Everyday life of a Soviet teacher in the 1960s – 1970s (based on materials from the TASSR). Bulletin of the Kazan State University of Culture and Arts, no. 4–2, pp. 110–113. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21381262. (In Russ.)
- Shevtsova 2017– Shevtsova A.A. (2017) Soviet and Russian school in the mirror of cartoons: visual series. In: Modern education: vectors of development. The role of social and humanitarian knowledge in the formation of spiritual and moral culture of a graduate of a pedagogical university: materials of an international scientific conference, Moscow, April 20–21, 2017. Moscow: Moscow State Pedagogical University, pp. 656–668. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32868555 (In Russ.)
- Ewing 2011 – Ewing E.T. (2011) The Teachers of Stalinism: Policy, Practice, and Power in Soviet Schools of the 1930-ies; translated from English by D.A. Blagov. Moscow: ROSSPEN; Fond «Prezidentskii tsentr B.N. El'tsina», 359 p. Available at: https://royallib.com/book/yuing_e_tomas/uchitelya_epohi_stalinizma_vlast_politika_i_gizn_shkoli_1930h_gg.html. (In Russ.)
- Yavnova 2019 – Yavnova L.A. (2019) The image of a teacher in the context of public policy (based on written and oral ethnographic sources). In: History and culture of the peoples of South-Western Siberia and adjacent regions (Kazakhstan, Mongolia, China): materials of the international research and practical conference, Gorno-Altaysk, September 16–18, 2019. Gorno-Altaysk: Gorno-Altai State University, pp. 352–362. Available at: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41328556. (In Russ.)
Supplementary files