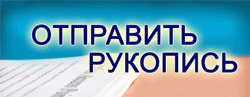Полный текст
Введение
Становление индустриальной, а в конце ХХ сто-летия постиндустриальной цивилизации актуализировало проблему сохранения, конструирования и забвения социальной и культурной памяти. По утверждению социолога М. Хальбвакса, книги, культурные сооружения, архивы и библиотеки, которые в век технологических свершений общедоступны, вместо сохранения памяти становятся инструментом ее разрушения и забвения [Хальбвакс 2005]. Это вызвано тем, что отпадает необходимость в запоминании и сохранении традиционных каналов культурной преемственности [Хальбвакс 2005].
В исторической памяти народа и нации, преломляясь через официальные государственные нарративы, фиксируются наиболее значимые события и факты, которые не только связывают прошлое и настоящее, но и формируют ментальные установки и ценностные ориентиры, связывая время и место. Мастер-нарративы, выработанные государственными институтами, создают контуры социальной и исторической памяти [Романовская 2010, с. 43], определяют, что является важным для поступательного развития государства и конструирования гражданской идентичности, а также то, что требует забвения в силу неоднозначности восприятия различными социальными группами или болезненности рефлексии в общественном дискурсе.
Официальная история не ставит задачи сохранения объективного знания о прошлом и не задается целью сохранения реального образа мину-вших событий в памяти социальных групп. Она призвана формировать идеализированный образ власти как в прошлом, так и в настоящем, нивелируя трудные места национальной памяти, связанные с взаимоотношением властных элит, государственных институтов с обществом или отдельными социальными группами. Таким образом, существующие в обществе представления о прошлом в значительной степени являются результатом конструируемой памяти, а не реальной, отражающей всю палитру коллективных и индивидуальных памятей. Следовательно, научно структурированная память должна преодолеть разрыв между памятью официальной, насаждаемой обществу государством через механизмы официального мифотворчества, и памяти народной, базирующейся на устной традиции и отражающей общественные представления о прошлых событиях.
Официальная память создает искаженное представление о прошлом, но она отстаивает данный образ, сконструированный из социальных мифов, перед разрушительной силой настоящего. Прошлое наполняется эмоциональными переживаниями и оценками социальных акторов, тем самым становится личной историей и основанием социальной интеграции.
Масштабные социальные потрясения, такие как революции и войны, привносят в жизнь любого социума деструктивные начала. В этих условиях память с авторитетом традиций, обычаев, культурного и ментального кода становится востребованной различными социально-политическими силами, стремящимися найти основания для консолидации общества и разработать механизмы конструирования новой гражданской идентичности [Шеуджен 2012, с. 61]. Решить данную социо-культурную задачу возможно, актуализируя дискурс «места памяти».
Знаковые и символические объекты, способные сохранить в общественном сознании представления о своей идентичности, прошлом, исторических процессах, считает П. Нора, служат «местами памяти».
Местом памяти, как отмечает П. Нора, являются не только территориальные или географические объекты, связанные с историческими событиями и процессами, но и традиции и обряды, здания и различные сооружения, книги и рукописи, природные объекты, газетные публикации и предметы повседневной жизни, дающие информацию о каком-то историческом персонаже или событии [Нора 1999, с. 26].
Таким образом, феномен «мест памяти» не ограничивается территориальными рамками конкретно определенного места, а является символическим нарративом, призванным консолидировать общество и сохранять знание о значимых событиях прошлого, наполнить особым ценностным содержанием повседневные будни социального субъекта.
В условиях разрушения традиционных механизмов передачи социального опыта, эрозии духовных оснований общества и осознания «молчаливым большинством» разрушительных последствий модернизационных трансформаций именно «места памяти» становятся механизмом сохранения маркеров групповой идентичности, культурного кода социальной группы или страты. Они, аккумулируя символы и ценности прошлого, наполняя их новым аксиологическим и семантическим содержанием, выступают каналами культурной преемственности, источником культурно-нравственного потенциала поступательного развития общества. В данной статье предпринята попытка рассмотрения роли «мест памяти» в сохранении традиционного крестьянского миропорядка в послевоенной колхозной деревне Среднего Поволжья.
Ход исследования
Послевоенное десятилетие в отечественной истории обозначается как время позднего сталинизма. Отголоски данного периода находят свое проявление и в современном российском обществе. Не случайно, по мнению Е.А. Осокина, сталинизм в современном российском социогуманитарном познании представляет собой не только политическую, но и морально-нравственную проблему. Период послевоенного сталинизма обществом оценивается инстинктивно и эмоционально, а не концептуально и научно обоснованно» [Осокина 2010, с. 285].
Анализ значения мест памяти в сохранении и консервации культурных традиций колхозной деревни приобретает актуальность и значимость именно в стремлении преодолеть последствия сталинизма и выявить глубину травмы, нанесенной тоталитарным государственно-бюрократическим аппаратом сельскому обществу. Сталинизм, в нашем понимании, представляет собой не только политическую модель тотального властного диктата государства над обществом, но и особую систему взаимодействия общества и государственных институтов, связанную с выработкой социальными акторами различных механизмов сопротивления и адаптации к карательно-репрессивным государственным практикам.
Для советской колхозной деревни модернизационные изменения ХХ века оказались трагичными: крестьянство как социальная группа со своим ценностным миром, хозяйственным укладом, коммуникационными связями просто перестало существовать. Оно растворилось в иных социальных группах советского общества. Выходцы из деревни пополняли ряды миллионного городского населения, научной и творческой интеллигенции, маргинальных групп городских окраин.
Особый трагизм отечественного опыта раскрестьянивания определяется высоким уровнем участия государства в разрушении традиционного крестьянского уклада жизни, повседневного пространства сельского обывателя. В условиях становления индустриальной цивилизации исход крестьянства с исторической арены является объективным и закономерным. Широкое внедрение в сельскохозяйственное производство машинной техники и научных технологий привело к значительному сокращению применения примитивного ручного труда и увеличению количества свободных трудовых ресурсов, не востребованных в аграрном секторе. В российской действительности второй четверти ХХ века разрушение целостного крестьянского мира оказалось не естественным цивилизационным процессом, а специально реализованным государством аграрным проектом.
Государство, широко используя карательно-репрессивные и агитационно-пропагандистские механизмы воздействия на крестьянство, формировало в носителях крестьянской культуры чувство второсортности и отсталости, задача которых заключалась в обеспечении продовольствием промышленных центров в ущерб своим личным интересам и потребностям [Вербицкая 1991, с. 9]. В результате в крестьянском сознании сформировалось это чувство. Оно во многом определяло жизненные стратегии сельской молодежи. Молодые колхозники стремились покинуть деревню и навсегда покончить со своим крестьянским происхождением, реализовав свой жизненный потенциал не в аграрном секторе, а в индустриальных центрах [Хасянов 2018, с. 309].
Советский аграрный проект ставил задачу создания системы крупных сельскохозяйственных производителей путем объединения на добровольных началах мелких крестьянских хозяйств. Но цели аграрной политики заключались не только в централизованном изъятии сельскохозяйственной продукции у агропроизводителей обязательными поставками государству, но и в том, что советское правительство, активно прибегая к технологиям социальной инженерии, а именно: широко используя мифологизирующую функцию визуальных образов массовой культуры (изобразительное искусство, кино, СМИ), борьбу с неграмотностью, антирелигиозное просвещение, стремилось сконструировать на селе нового советского человека – носителя ценностей марксистской идеологии, поддерживающего правящий режим. Правительство, приступая в 1929 г. к политике сплошной коллективизации, не стало учитывать мнения большинства крестьян, которые не желали вести коллективное хозяйство, отказываться от своих наделов и инвентаря в пользу общественного производства.
Противодействие осуществляемой государственной аграрной политике приобретало формы открытого сопротивления и протеста, но более распространенными становились механизмы скрытого, пассивного сопротивления. По мнению исследователя С. Дэвис, голос крестьянства в 30-е гг. властями был не услышан. Сами крестьяне, избегая открытой конфронтации с государством и представителями государственных структур на селе, выражали протест анонимно, прибегая к слухам и песням [Хасянов 2018, с. 54]. Данная крестьянская стратегия была направлена на дискредитацию информации, распространяемой по официальным каналам, об улучшении социального и культурного облика советской деревни.
Одновременно с коллективизацией началась новая волна наступления властей на религиозные организации, сопровождавшиеся массовым закрытием культовых учреждений. Эти необдуманные действия властей, отмечает Ш. Фицпатрик [Фицпатрик 2008], приводили к возрастанию демонстративной религиозности в крестьянской среде. Одна из стратегий крестьянского сопротивления коллективизации заключалась в демонстративной религиозности сельского общества [Хасянов 2018, с. 59]. Сельские обыватели массово отказывались от выхода на работу в колхозном хозяйстве в дни религиозных праздников, количество которых в годы первых пятилеток увеличилось. По мнению исследователей, сами эти праздники нельзя было отыскать даже в религиозных календарях [Хасянов 2018, с. 75, 232].
Обращение к религиозной традиции являлось механизмом мобилизации памяти. Колхозное крестьянство посредством религиозных практик пыталось сохранить свой разрушающийся микромир. Как отмечает И.Е. Кознова, крестьянская культура по своей сущности была «культурой помнящей» [Кознова 2016], а ведущей формой коллективной памяти был сам крестьянский образ жизни, сохраняющий образцы поведения представителей сельского социума [Леонтьева 2016].
Крестьянская память противопоставлялась официальной памяти, которая стала активно транслироваться через пропагандистские лозунги и агитационные плакаты. По наблюдениям И.Е. Козновой, крестьянская память на протяжении всего ХХ в. структурировалась вокруг оппозиций «раньше – теперь», «мы – они» [Кознова 2016, с. 118]. В этой памяти эталоном выступало минувшее – «раньше», т. е. время порядка, стабильности, гармоничной повседневной жизни, подчиненной вековому традиционному образу жизни. А «настоящее», несущее в себе угрожающие перемены, наполнялось негативными коннотациями: время утраты ценностей, разложения моральных установок, утраты самости крестьянства, его идентичности.
Начавшаяся Великая Отечественная война (трагические образы которой, как и коллективизации, оставили неизгладимый след в социальной памяти сельских жителей) на короткое время остановила наступление государства на традиционный крестьянский уклад жизни. В условиях жесткого дефицита продовольствия и полного отсутствия промышленных товаров, когда экономика страны была полностью переведена на нужды фронта, крестьянство, находясь в условиях перманентного голода, стало саботировать общественные работы в колхозах, уделяя основное внимание трудовой деятельности на личных подсобных хозяйствах. Размеры последних самовольно расширяли за счет «расхищения общественных земель» [Хасянов 2018, с. 213].
В годы войны произошло важное изменение во взаимоотношениях государства и общества: после десятилетия гонений на религию религиозные организация получили официальное государственное признание, и начался процесс институционализации их деятельности в советском обществе. При центральном правительстве были созданы специальные советы, координирующие и контролирующие деятельность Русской православной церкви Московского патриархата и других религиозных культов. Данные советы не только контролировали деятельность религиозных институтов, но и выполняли коммуникативную функцию, осуществляя связь между государством и верующими.
Восстановление патриаршества и широкое освещение в прессе деятельности поместного собора способствовало росту активности верующих. Они выступали с ходатайствами об открытии церквей, молитвенных домов и других культовых учреждений, стремились юридически оформить общины верующих и вернуть имущество, ранее принадлежавшее приходу. Колхозная деревня в данном процессе не стала исключением. Традиционное крестьянское большинство, ориентированное на религиозно-нравственные ценности сельского мира, ожидало массового открытия религиозно-культовых учреждений, практической реализации принципа свободы совести. Как и в предшествующий период, надежды крестьян находили свое отражение в многочисленных слухах. Во многих селах Ульяновской области актуальными были слухи о возвращении Сталина в лоно церкви и его гарантиях, данных союзникам, о всесторонней поддержке деятельности религиозных учреждений (ГАНИ УО. Ф. 8. Оп. 1. Д. 230. Л. 10).
В послевоенной колхозной деревне религиозные традиции и природные объекты, связанные с религиозно-мифологическими образами прошлого, начинали выполнять функции хранителя памяти. Как известно, в сравнении с городской сельская культура сформировала особую систему ценностей и идеалов. Ей были присущи консерватизм, традиционализм и коллективизм. Важную роль она отводила религии, которая не только служила средством единения человека с Богом, но и являлась важным каналом трансляции социокультурного опыта и выступала духовно-нравственным основанием крестьянской идентичности. Архивные документы свидетельствуют, что даже в годы активной антирелигиозной борьбы в селах и деревнях Ульяновской и Куйбышевской областей по-прежнему действовали религиозные объединения верующих, а сами колхозники продолжали следовать религиозным предписаниям. В своем первом отчете за 1945 г. уполномоченный Совета по делам религиозных культов по Куйбышевской области подчеркивал, что в сельских районах задолго до регистрации в органах государственной власти действовало 18 мусульманских религиозных обществ (ЦГАСО. Ф. Р. 4089. Оп. 1. Д. 3. Л. 3), которые являлись «исторически сложившимися и организационно крепкими организациями» (ЦГАСО. Ф. Р. 4089. Оп. 1. Д. 10. Л. 10).
Традиционной составляющей религиозной культуры являлись праздники. На селе важнейшим праздничным действием было посещение родственников и храма, «хождение в народ» для участия в массовых народных гуляньях. В послевоенное десятилетие, несмотря на сохранение активной антирелигиозной пропаганды, сельский социум демонстрирует сохранность этого культурного маркера. В своем отчете за 1945 г. уполномоченный по делам религиозных культов по Куйбышевской области указывал на доминирование среди верующих именно колхозников и крестьян-единоличников. Он полагал, что особое религиозное рвение они проявляли в дни религиозных праздников (ЦГАСО. Ф. Р. 4089. Оп. 1. Д. 3. Л. 1 об.). Председатель колхоза «Красное поле» Платоновского сельсовета в беседе с уполномоченным говорил, что в дни больших религиозных праздников почти все девушки и многие парни посещали церковные службы (ЦГАСО. Ф. Р. 4187. Оп. 2. Д. 14. Л. 17).
В окрестностях села Сурского Сурского района Ульяновской области находилась возвышенность, которая в народе именовалась «Николина гора». Согласно легенде, православный святой Николай Чудотворец в 1552 г. уберег данное селение от нашествия крымских татар. И в честь данного события на холме была выстроена часовня, в которой хранилась «чудотворная икона Николая Чудотворца» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 30). В разные годы в день Николая Чудотворца (Николы) село посещало до 300 тысяч верующих, а службы в церквях велись целую неделю. С началом активной антирелигиозной борьбы в СССР к 1932 г. все церкви в Сурском были закрыты, а сама часовня на Николиной горе была разрушена (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 31). Но это не остановило массового паломничества. Люди по-прежнему продолжали приходить к святому месту.
21–22 мая 1945 г., в день праздника Николы, на Николиной горе «собралось богомольцев больше 7000 человек из разных районов области и Мордовской АСССР, которые совершали моление с пением» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 38. Л. 67), ими было собрано пожертвований около 11 000 рублей «в фонд помощи детям фронтовиков» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 38. Л. 71). По данным уполномоченного по делам РПЦ по Ульяновской области, в 1947 г. в данный религиозный праздник на Николиной горе присутствовало около 5000 человек, более 30 % относились к возрастной группе от 13 до 20 лет (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 211. Л. 42). В 1950 г. число паломников приблизилось к 8 тысячам, а в 1952 г. – 12–15 тысячам (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 31). Динамика численности паломников свидетельствовала, что в послевоенном советском обществе наблюдался рост численности верующих, которые не скрывали своего отношения к религии.
Среди паломников много было так называемых «юродивых» и лиц с различными физическими увечьями, в частности инвалидов Великой Отечественной войны, которые просили подаяния. Мотивы своих действий просящие милостыню объясняли по-разному. Так, инвалид 1-й группы Петровичев из Чувашской АССР, вернувшийся с фронта без обеих ног, прибыл в Сурское с женой и двухлетним ребенком. Он пел молитвы, осенял себя крестным знамением и пророчествовал, при этом просил подаяние «ради своего несчастного ребенка» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 33). Верующие жертвовали продукты и деньги. Другой паломник, также инвалид войны, нуждался в средствах для ремонта своего дома, который из-за ветхости и отсутствия должного ухода в военные годы пришел в негодность.
В различные исторические эпохи цель любого паломничества заключалась в желании верующих получить искупление грехов, показать свою искреннюю веру и глубину своих религиозных чувств. Паломничество на Николину гору не являлось исключением. Верующим для искупления грехов необходимо было совершить определенный ритуал, а именно три раза подняться на гору с грузом камней (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 35). По мнению уполномоченного по делам Русской православной церкви А. Журавского, действия многих верующих доходили до фанатизма. Они усматривали в этих камнях лик Николая Чудотворца (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 1. Д. 918. Л. 35). Некоторые, больные трахомой, натирая камнями свои глаза, пытались излечиться от страшного недуга.
Из многочисленных населенных пунктов Поволжья (Ульяновской, Куйбышевской, Пензенской, Саратовской областей) шли паломники к могиле мусульманского проповедника ишана Хабибуллы Хансаварова в село Новые Зимницы Старокулаткинского района Ульяновской области (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 891. Л. 5). Только незначительная часть паломников приезжала в село на автомобильном транспорте, а большая масса верующих была пешей. Многие из тех, кто шел к могиле проповедника пешком, несли с собой камни, которые возлагали на его надгробие. Верующие считали, что в загробном мире это станет свидетельством их посещения могилы праведника Хансаварова (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 891. Л. 5).
Необходимо отметить, что в послевоенной колхозной деревне не только представители традиционного православия стремились, используя консолидирующую силу религиозно-культовых объектов, противостоять модернизационным трансформациям традиционного крестьянского мира. Так, мусульманское население, впрочем, как и православное, лишенное основных культовых объектов в период активной антирелигиозной кампании 30-х годов, продолжало совершать паломничество к религиозным объектам. При этом советские партийные органы утверждали, что среди колхозников-мусульман было очень мало верующих. Например, уполномоченный Совета по делам религиозных культов по Ульяновской области Симонов в 1949 г. сообщал, что из 1805 жителей села Тюгальбуга Новомалыклинского района Ульяновской области верующими были только 100 человек (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 887. Л. 5). По его данным, все верующие этого села были в преклонном возрасте, а молодежь к религии была безразлична. Актив местного религиозного общества состоял из 26 человек, возраст которых превышал 65 лет.
Отсутствие религиозно активной молодежи объяснялось безразличием молодежной среды к религии, но, на наш взгляд, причина заключалась в другом – сельские жители активного трудового возраста опасались открыто проявлять свою религиозность из-за возможных негативных последствий, которые могли сказаться на их жизненных траекториях. Но, несмотря на трудности, с которыми сталкивались верующие, особенно молодежь, находившаяся под пристальным вниманием сельских партийно-пропагандистских учреждений, в дни праздников молодые сельчане принимали активное участие в праздничных богослужениях. Так, в 1949 г., в день мусульманского праздника Курбан-байрам, в селах Ульяновской области в праздничных богослужениях приняло участие более 100 колхозников в возрасте от 18 до 25 лет. В селе Татарский Калмаюр Чердаклинского района в богослужении участвовало более 20 молодых колхозников, в селе Енганаеве того же района – 30, в селе Новые Зимницы Старокулаткинского района – 30, в селе Аллагулове Мелекесского района – 13 человек (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 887. Л. 53).
В день праздника Ураза-байрам 2 июня 1954 г. жители села Новые Зимницы Старокулаткинского района стали с 4 часов утра собираться на праздничный намаз. Ровно в 5 утра началось торжественное богослужение, на котором присутствовало около 350 колхозников. Среди собравшихся были женщины в количестве 70 человек.
Женщины в помещение мечети не проходили и молились в «ограде». Для удобства собравшихся во дворе мечети и возможности услышать проповедь муллы с праздничной молитвой у здания мечети было выставлено «два окна» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 888. Л.122). Среди молящихся в этот день были и молодые колхозники в возрасте от 18 до 25 лет (50 человек). Среди них были замечены и юные сельские комсомольцы (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 888. Л. 123). В селе Татарский Калмаюр в коллективной молитве в праздник Курбан-байрам 1954 г. приняли участие не только молодые колхозники, но и школьники 6–8 классов, количество которых доходило до 15 человек (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 888. Л. 136).
В 1952 г. в селах Старая Кулатка Старокулаткинского района, Филипповка Мелекесского района, Большой Чирклей Николаевского района в дни религиозных праздников коллективные намазы проводились на кладбищах. На них присутствовало от 100 до 200 верующих (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 888. Л. 44). В богослужениях активное участие принимали молодые колхозники в возрасте от 18 до 25 лет. В 1956 г. на кладбище с. Старый Сантимир Новомалыклинского района на праздничную молитву в праздник Курбан-байрам собралось 310 человек, в том числе 38 молодых колхозников. В селе Эчкаюн того же района – 320 человек. В селе Мордове Озере Мелекесского района на богослужении, проходившем под открытым небом, присутствовало до 200 колхозников; в селе Елхове озере Богдашкинского района – 60 человек; в селе Калда Барышского района – 350 человек, в том числе молодежи – 92 человека (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 891. Л. 28–29).
О консолидирующей роли мест памяти свидетельствует массовость религиозных праздников в послевоенном поволжском селе. В праздничных действиях участие принимали представители различных возрастных и социальных групп колхозного села. В праздник Курбан-байрам 1949 г., который пришелся на активный цикл уборочных работ, во многих колхозах Ульяновской области с преимущественно татарским населением были сорваны полевые работы, т. к. колхозники, игнорируя общественные работы, массово отправились в мечети на совершение праздничного намаза. По заявлению председателя Татарско-Калмаюрского сельского совета Каюмова, в день праздника Курбан-байрам из 370 трудоспособных колхозников в полевых работах принимало участие только 15–20 человек (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 887. Л. 54).
В колхозе «Урнек» села Новые Тимерсяны Богдашкинского района в этот день работало не более 50 % колхозников, а председатель данной сельскохозяйственной артели Ахметов «предоставил служителю культа колхозную лошадь для разъезда муллы по верующим». Причем сам Ахметов, как и предписывалось правоверному мусульманину, в этот день совместно с сельским муллой отслужил в своем доме специальную службу и совершил жертвоприношение (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 887. Л. 54). Ситуация повторялась и в последующие годы.
В 1952 г. в день праздника Ураза-байрам все общественные работы в селе Енганаеве Чердаклинского работа были остановлены, т. к. «никто из колхозников на работы не вышли» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 888. Л. 44). Несмотря на то что представители сельских партийных организаций и сам уполномоченный Совета по делам религиозных культов утверждали, что количество веру-ющих на селе в послевоенное время неуклонно сокращалось, в дни конфессиональных праздников наблюдалась совершенно иная картина. Колхозники, включая и сельскую молодежь, в праздничные дни срывали работы в общественном хозяйстве. Вместо работы после праздничного богослужения они «принаряживались и группами бродили по селу» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 888. Л. 137).
Необходимо отметить, что не во многих селах были действующие мечети. В Ульяновской области в 1949 г. было зарегистрировано только 16 мусульманских религиозных общин. В 27 селах действовали незарегистрированные мусульманские общины в явочном порядке (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 887. Л. 71). Жители сел, в которых не было действующих мечетей, а власти не давали согласия на регистрацию общин верующих, праздничные богослужения совершали под открытым небом на улицах, кладбищах или в частных домах. В 1949 г., по имеющимся сведениям, в Ульяновской области вне культовых сооружений прошли общественные намазы в 16 селах. В данных молениях принимало участие более 1200 колхозников (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 887. Л. 54).
В 1954 г. 100 жителей села Нагаева Карсунского района в день праздника Курбан-байрам собрались на моление за селом в поле, а в селе Татарские Горенки этого же района более 120 веру-ющих совершили праздничный намаз на центральной улице села, расположившись напротив здания закрытой мечети (ГАРФ. Ф. Р . 6991. Оп. 3. Д. 888. Л. 178). В единственной мечети Карсунского района в с. Уразовка на праздничное богослужение по случаю праздника Курбан-байрам в 1956 г. собралось 280 верующих (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 891. Л. 28).
В годы первых послевоенных пятилеток, после короткого периода открытия культовых со-оружений и юридического оформления общин верующих, правительство взяло курс на дальнейшее ужесточение религиозной политики. Государственные институты, используя любые предлоги, даже идущие в разрез с действующим советским законодательством, снимали с регистрации общины верующих и в очередной раз изымали у них культовые здания. Уже к началу 1956 г. на территории Ульяновской области осталось только 10 действующих мечетей: одна – в областном центре и 9 – в селах. В Карсунском, Барышском, Мелекесском, Новомалыклинском районах действовало по одной мечети, в Чердаклинском – три, а в остальных районах области мусульманские культовые учреждения были закрыты, а общины верующих сняты с регистрационного учета (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 891. Л. 28).
Одна из особенностей народной религиозности крестьянства заключалась в обращении к религии в период различных природных и социальных катаклизмов. Яркой иллюстрацией этого является Великая Отечественная война, когда советское правительство использовало религиозные институты для социальной мобилизации масс на борьбу с агрессором. В послевоенные годы, особенно когда сельское население столкнулось с природным катаклизмом – засухой 1946 г., использовался прежний механизм борьбы с природной стихией – совершение молений и паломничеств к особо почитаемым местным святыням. Именно на эту особенность указывал председатель Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР И.В. Полянский в 1947 г.: «Религиозность масс еще питают переживаемые нашим государством трудности, так, во время засухи 1946 г. и в связи с неурожаем, вызванным ею», – предлагая усилить антирелигиозную пропаганду (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 47. Л. 2).
Священник-настоятель церкви села Тенькова Тагайского района Ульяновской области в 1947 году сообщал, что в селах Языкове и Прислониха Тагайского района, Базарном Урене и Урене Карлинском Карсунского района с целью борьбы с засухой колхозники устраивали в полях крестные ходы. В них принимало участие от 80 до 150 колхозников, преимущественно женщин. По его мнению, инициатором данных шествий выступали «монашки, старые девы и наиболее религиозные старушки». В селе Белозерье Карсунского района крестный ход возглавил заштатный священник Куприянов (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 355. Л. 52). Настоятель церкви села Березовка Вешкаймского района «совершал крестные ходы в связи с засухой в селах Чуфарове, Красном Боре и Березовка» (ГАРФ. Ф. Р. 6991. Оп. 3. Д. 355. Л. 53).
Заключение
Таким образом, несмотря на активную антирелигиозную пропаганду в советском обществе и строгий контроль государства за деятельностью религиозных объединений, религия в сельском обществе продолжала исполнять роль «места памяти», которое в условиях разрушения традиционного крестьянского мира способствовало сохранению многовековых жизненных традиций.
Многочисленные донесения о совершении молитв в дни религиозных праздников даже в населенных пунктах, в которых не было культовых сооружений и зарегистрированных общин веру-ющих, свидетельствуют, что в повседневных практиках послевоенного колхозного крестьянства религии отводилась важнейшая роль. Как и в предшествующий период, в послевоенной колхозной деревне, которая находилась в тяжелейших материальных условиях, страдала от отсутствия социальной инфраструктуры и социально-культурных благ, представители сельского общества использовали компенсаторную функцию религии для сохранения своей крестьянской идентичности. В религиозных традициях они видели не только средство консолидации общества, но и механизм культурной преемственности, способной объединить в единое целое прошлое и будущее, наполнить его надеждами на позитивные изменения, способные облегчить трудную участь колхозного крестьянства.