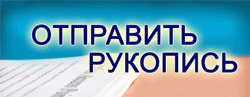«Повседневные практики» в «истории повседневности»: как работает метод
- Авторы: Кобозева З.М.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
- Выпуск: Том 27, № 1 (2021)
- Страницы: 32-38
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.ssau.ru/hpp/article/view/8322
- DOI: https://doi.org/10.18287/2542-0445-2021-27-1-32-38
- ID: 8322
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье анализируется современная методологическая парадигма в границах теории «истории повседневности» и ее методов, связанных с понятием «повседневных практик» (тактик, стратегий) на примере изучения повседневной истории мещанского сословия. Несмотря на кажущуюся «миролюбивость» подхода к «истории повседневности», в ее эпистемологическом поле обнаруживаются, проявляются, сталкиваются академические отношения, связанные с борьбой традиционалистов и постмодернистов, сторонников описательной истории быта и последователей дискурс-анализа, а также исследователей, работающих с материалом в границах наработок лингвистически ориентированной историографии. Исследовательская рефлексия в современных условиях сопряжена и с нравственным выбором историка: продолжать изучать великие даты, события, имена или сместить исследовательскую оптику в сторону малоизвестного, малопримечательного человека, вырванного из пасти времени всего лишь случайным письменным документом, который поймал некоторое мгновение его жизни. Этическая исследовательская рефлексия, утверждающая, что «маленький человек» – такой же равноценный творец истории, как и его великий современник, связана с методологической этикой, не позволяющей формализовывать методологический подход, формулируя во вводной части к статье те принципы, которые на практике не реализуются в исследовании. Данная статья не столько полемизирует в отношении методологических подходов современной отечественной историографии, сколько предлагает не следовать «моде», а с учетом специфики источниковой базы применять те методы, которые «работают», то есть помогают составить некую объяснительную модель истории, тех ее локусов, которые связаны с научными интересами того или иного исследователя. В этом отношении германская школа истории повседневности, в частности А. Людтке, представляет ту аналитическую объяснительную модель прошлого, которая позволяет «маленького человека» сделать не только творцом истории, но и ответственным за все ее события.
Полный текст
Введение. В поисках методологии
Не случайно в современном пространстве поиска отечественными историками методологического фундамента для своих исследований до сих пор кипят страсти, связанные с этическим пониманием тех или иных понятий и слов. И не случайно популярностью пользуется школа истории понятий Р. Козеллека. Потому что в современной ситуации, особенно после лингвистического поворота в историографии, язык становится не только вместилищем смыслов, но и «болевым порогом» исследовательской этики. Одни и те же слова выступают названиями методов и просто привычными для повседневной языковой практики понятиями. Границы дисциплин перемешались в ситуации междисциплинарных подходов. Категоричность научных «вероисповеданий» зашкаливает. Те слова, которые выступали маркерами одних направлений исторических исследований, стали неожиданно методологическими константами, закрепленными за абсолютно другим полем исторического знания. Философия истории лопается от методологического плюрализма и его обоснования. После периода тотального и однообразного «Введения» научных работ со всеобщей фразой «на базе марксистско-ленинской методологии» современное методологическое обоснование отечественной работы по истории напоминает слоеный пирог, в котором уживаются привычные позиции и всякий модный научный «сленг», абсолютно не подтверждаемый при дальнейшем знакомстве с работой. Так как большинство работ по истории повседневности по-прежнему остаются описательными, реконструирующими детали повседневного быта, то зачем же объявлять себя последователями, к примеру, А. Людтке и М. Серто с их теориями повседневных практик? Об этом замечательно написал С.В. Журавлев в предисловии к монографии А. Людтке «История повседневности в Германии: Новые подходы к изучению труда, войны и власти»: «…в российской историографии сохраняется своеобразная “подмена понятий”, которую сегодня уже трудно списать на “болезнь роста”: не только обыватели, но и немалая часть ученых продолжают понимать “историю повседневности” как разновидность “истории быта”, а не новую исследовательскую парадигму» [Людтке 2010, с. 6]. И если воспитанные в лоне марксизма историки продолжают трудиться и писать свои научные труды в дискурсе марксистских подходов, то зачем добавлять во введениях, к примеру, семиотические анализы и историю эмоций и стыдливо отказываться от достижений советский историографии? Просто чтобы выглядеть современно? Но, может быть, настало время честно объявлять свой методологический фундамент как свое лицо в пространстве современной историографии? Что плохого в марксизме, позитивизме и т. д., если методология сочетается с источниковой базой и выстраивается в определенный методологический организм, который и есть лицо историка, который и есть его место в историографическом пространстве современной науки. И может быть, следует оставить «повседневные практики» тем историкам повседневности, кому удобно работать таким образом, к примеру в границах социальной истории, занимаясь массовым делопроизводственным источником. И не смешивать «духовные практики», принятые в богословии, с практиками народной религиозности, принятыми в русле антропологически сориентированной истории повседневности. «Каждый пишет, как он дышит».
«Повседневные практики» мещан городов Российской империи в пространстве власти и повседневной жизни: как изучать
Сразу хочу отметить, что принадлежу к тем историкам, которые исповедуют принцип «истории снизу» не только в плане вектора построения исследования, но и этически, нравственно разделяющих позицию: «маленький человек» – творец истории. Поэтому для меня самым главным, как я уже отмечала, нравственным рефреном было услышать голос «маленького человека», принадлежащего к мещанскому сословию русских городов, в его повседневной жизни, во многом сформированной и очерченной властью. Я начала с архива, с массового делопроизводственного источника. Так как мещане представляли собой эпистолярно не озвученное в массе своей сословие, узнать о подробностях их жизни можно было только из делопроизводства. И уже после того, только после того, как «маленький человек», «маленький мещанин» «большой империи» заговорил со мной языком документов – писем во власть, встал вопрос: в какой же метод укладывается этот повседневный диалог человека с властью, диалог «ценой» в жизнь? И произошло исключительное совпадение с той частью историографии, которая использует парадигму «повседневных практик», понимая под словом «практика» «такое поведение, посредством которого люди осваиваются с условиями своей жизни (выживания)» [Людтке 2010, с. 58].
Делопроизводственный источник, в частности бесчисленные обращения мещан в городскую думу или в мещанскую управу города, отличает лапидарность сюжета. Люди обращались во власть по различным обстоятельствам своей жизни. Эти обращения в массе своей были эмоционально окрашены. Потому что человеку необходимо было убедить того или иного представителя власти, от которого зависела его судьба, в чрезвычайности жизненных обстоятельств, не позволявших, к примеру, уплатить в срок подати или предоставить рекрута от семейства [История и антропология… 2006]. Такие истории, как правило, не рассказывают нам о всей жизни человека. Ситуация как бы вырвана из контекста. Но можно ли такие истории проигнорировать, не рассматривать как казус в результате усредненности и типизации, включения в статистику, в обобщения, констатирующие тенденции, пополняющие «царство массовости и обезличенности» [Репина 2009, с. 271]? Или же мы можем каждый подобный делопроизводственный казус сделать объектом пристального внимания на предмет выявления человеческой субъективности со всей неповторимостью индивидуального проживания исторического времени и своей судьбы в этом времени? Источники по истории повседневной жизни мещан Российской империи систематизированы в архиве, в основном сообразуясь с групповым принципом, то есть это документация или мещанской управы, или градской думы. Но каждое дело, обращение мещан во власть или отчеты служащих по городскому управлению и самоуправлению о жизни мещанского общества заключают в себе неповторимый колорит частного события, события, которое хоть и вызвано сословными рамками, но переживается индивидуально. В этой связи появляется идея о необходимости коллаборации системно-структурного, социокультурного и психологически-личностного подходов в изучении проблемы мещанской жизни провинциального города. Подобного результата можно добиться только с помощью соединения макро- и микроподходов исторического исследования. Макроподход позволяет очертить вызовы, предъявляемые человеку его местом в социальной структуре. Микроподход выявляет индивидуальное переживание человеком ситуаций, связанных с его социальным статусом. Синтез данных подходов предоставляет возможность выделить повседневные практики, (тактики, стратегии), связанные с местом человека в социальной иерархии и образуемые в повсе-дневной жизни.
В границах социальной истории различные программы макро- и микроподходов, как правило, все же разводят свои предметы: одни продолжают социологическими методами изучать классы, сословия и иные большие группы людей, другие сделали предметом своего изучения «социальные микроструктуры: семью, общину, приход, разного рода другие общности и корпорации» [Репина 2009, с. 27]. В моем исследовании был выбран типичный для отечественной историографии макрообъект – сословная структура. Но подходы к анализу были определены с позиций направления «истории повседневности», когда внимательное изучение тактик и стратегий повседневного существования человека в социуме складывается в более общую картину выявления повседневных практик сословного существования индивида в сложный период модернизационных изменений города, в пространстве которого и проживала большая часть представителей сословия.. Всю мозаику человеческих связей и отношений в рамках такого значительного социального локуса, как сословие, можно рассмотреть через многосторонний ситуационный анализ, позволяющий реконструировать индивидуальное событие во всей его многогранности проявлений. Но вместе с тем, как отмечал П. Бурдье, «тысячи бесконечно малых происшествий», интегрируясь, порождают «объективное чувство, воспринимаемое объективным аналитиком» [Бурдье 1994, с. 136–137]. При изучении такой категории, как «сословие», казалось бы, затрагивается сфера макроистории, однако применяемый исследовательский метод позволяет обнаружить микроявления повседневных практик внутри такого макрообъекта, как сословие.
Историки продолжают быть включенными в поле дискуссий в отношении проблем, связанных с микроисторическим подходом, о «генерализации и индивидуализации», «мелочах и подробностях», «понятиях и образах», «взаимодействии макро и микроанализа» [Савельева 2003, с. 659–665]. Но найти в делопроизводственном источнике «живого человека» – это означает обнаружить деталь, запрятанную между строк, мелочь, интонацию уловить. Но эта мелочь, деталь способна как разрушить общую схему, так и придать ей новый ракурс, новое видение, обнаружить новые свойства. Микроанализ, используемый в моем исследовании мещанской повседневности, вызван скупостью эгоисточников, применительно к такому сословию, как мещанство. Если, к примеру, для дворянского сословия была характерна эпистолярная культура, которая дает возможность исследователю углубляться через эгоисточники в картину мира, мир чувств и особенности повседневного быта, то для городской бедноты, которой в массе своей являлось мещанство, единственный способ выразить себя – это написать бумагу во власть, обрисовав в ней свое бедственное положение.
И.М. Савельева и А.В. Полетаев принципиально возражают тезису, высказанному Л.П. Репиной, что микроисторические исследования можно использовать в качестве «первичных блоков в более амбициозных проектах социоистории» [Репина 2009, с. 77]. Авторы утверждают: «…как показывает опыт полувековых дискуссий о соотношении макро- и микроанализа, ведущихся в экономике и социологии, эти два подхода не сводимы один к другому и микроаналитические исследования не могут служить блоками для построения макротеорий общественного развития» [Савельева, Полетаев 2003, с. 664–665]..По мнению Савельевой и Полетаева, «соединить микро- и макротеории в непротиворечивую систему до сих пор не удавалось» [Савельева, Полетаев 2003, с. 665]..
Я не могу согласиться с подобным утверждением, так как это означало бы невозможность вообще таких исследований, как мое. Но исследовательская практика показывает, что сословная «рамка» формировала определенные поведенческие тексты, в своей сословной обусловленности общие для представителей сословия, а в реальной жизни расцветающие всем многоцветием самой реальной жизни с любовью, страданиями, весельем, надеждами и подсчетом копеечек, чтобы свести концы с концами. Все как у нас, но только в сословной системе координат второй половины XIX – начала XX вв. Нельзя игнорировать такие макропроцессы, или «габитусы», в системе которых протекает повседневная жизнь, наполненная «вызовами» власти. В этом отношении оказываются необходимыми такие теории, как теория «социального пространства» П. Бурдье, теория «знания – власти» М. Фуко, символический интеракционизм Дж.Г. Мида и теория социальной рефлексивности Э. Гидденса.
Не затрагивая в границах данной статьи теоретических установок П. Бурдье и Дж. Мида, хотелось бы остановиться на рассуждениях о власти и обществе М. Фуко, в которых центральная роль отводится дискурсу. Две концепции М. Фуко об «археологии знания» и о «знании – власти» помогают выявить механизмы взаимодействия власти и сословной структуры на повседневном уровне. Первая излагается в книге «Слова и вещи» [Фуко 1994]. Обосновав понятие эпистемы, Фуко породил соблазн выявления этого глубинного, фундаментального уровня в пространстве того явления, которым занят историк, идущий по стопам Фуко. В моем случае подобной «эпистемой» , или «априори», задающим «условие», выступает «золотой век городского гражданства», некая аутентичная русскому урбанизму структура, чье угасание растянулось на весь пореформенный период. Именно в ней, а не во всесословном пореформенном городском пространстве была уловлена некая взаимосвязь между языком, мышлением, знанием и вещами. «Дискурсивным событием» для данной эпистемы выступает «Жалованная грамота городам» Екатерины II. «Популяцией событий в пространстве дискурса» явилось городское самоуправление, проявившее себя в период до реформы 1870 г.
Тема «знания – власти», сформулированная М. Фуко в его книге «Надзирать и наказывать» [Фуко 1999], показывает механизмы распространения власти на всю сферу социального и повседневной жизни. Каждое «мещанское тело» (то есть живой человек) было погружено и в область политического. Отношения власти держали его мертвой хваткой. Они захватывали его, клеймили, муштровали, принуждали к труду, заставляли участвовать в церемониях, производить знаки [Фуко 1999, с. 39–40]. Многочисленные техники «захвата тела» мещанина империи властью проявляют себя в сюжетах, связанных с мещанским паспортом, без которого мещанин не мог покидать границы города, к которому был приписан, а получить паспорт мог только в тех случаях, если на нем не было долгов перед властью: по рекрутам, по податям и прочим сборам. Те же техники подчинения и управления прослеживаются в сюжетах, связанных с рекрутской повинностью, с верой и т. д. Собственно, во всех ипостасях можно увидеть эти техники, так как жизнь человека – это «дисциплинарное пространство», в котором он живет, из которого бежит и куда возвращается, чтобы закончить свой жизненный путь (после смерти мещанина его паспорт возвращался в мещанскую управу города, и меня поразил один архивный сюжет, когда близкие не могли поверить, что член их семьи «помер» на золотых приисках, так как в мещанскую управу Самары не был отправлен его паспорт).
Для историков, занимающихся вот таким срезом повседневной жизни людей прошлого, как я, спорным оказывается вывод Н.Е. Копосова, что «микроистория как логически независимая по отношению к макроистории методологическая перспектива возможна при выполнении одного из двух условий: либо если она откажется от предполагающих обобщение интеллектуальных стандартов, либо если она выработает такие формы обобщения, которые будут логически независимы от тех, на которых основана макроистория» [Копосов 2005, с. 142]. И если ты как исследователь понимаешь нравственное значение истории еще и в том, что она позволяет выхватить «маленького человека» из пасти времени и придать значение его жизни в масштабе «большой истории», то наполняешься эсхатологическим отчаянием от вывода Н.Е. Копосова, что «рассказать человечеству о его судьбе» может только «глобальная история», а в «осколках прошлого» историки «смогли открыть мало новых глубин» [Копосов 2005, с. 5].
Что касается истории повседневности, на наш взгляд, это та область человеческой жизни, в которой в большей степени запечатлена «уходящая натура» времени. Люди, выхваченные исследователем в их рутинный, обычный, ничем не примечательный день повседневного существования, страдают от холода, голода, болезней, обид, разочарований не меньше, чем застигнутые войной, революцией, стихийным бедствием. Для некоторых из них обида, нанесенная злыми родственниками или грубыми сборщиками податей, имеет не меньший уровень событийности, а иногда и больший, чем реформы и революции. Индивидуальная реакция зависит от степени приближенности «большого нарратива» к историческому актору и его психологического склада личности. Повседневность всегда прислушивается к событийной истории. Реагирует на импульсы внешнего мира, доносящиеся в ее пространство через рассказ очевидцев событий или взрывающие ее мирный ритм теми или иными происшествиями. Поэтому повседневность – это такое же поле действия истории, только в ней все сужено до восприятия дня от рассвета до заката, от рождения до смерти. Но и нельзя утверждать, что в этот будничный день никто из наших героев – мещан – не задумывался о будущем страны, об исходе войны, о справедливости в мире и жизни после смерти. Поэтому многие исследования, написанные в рамках направления «истории повседневности», напоминают своей описательностью бытовых подробностей картины П. Федотова. Н.Л. Пушкарева при анализе «истории повседневности» как направления исторических исследований совершенно справедливо замечает, что «реконструкция повседневности не так проста» [Пушкарева]. До сих пор удачные исследовательские проекты изучения повседневности в отечественной историографии «являются именно отдельными «островками» [История и антропология 2006, с. 30].. Это работы О.Е. Кошелевой о жизни Петербурга Петровского времени, А.Б. Каменского о повседневности русских городских обывателей XVIII в., Н.Б. Лебиной о советском городе, С.В. Журавлева о «маленьких людях» «большой истории» и т. д. [Журавлев 2000; Каменский 2007; Кошелева 2004; Лебина 1999].
О.Е. Кошелева в своей работе «Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени» [Кошелева 2004] исследует на основании подворных переписей, судебных гражданских и уголовных исков и т. д. повседневные стратегии поведения горожан в процессе уникального социального эксперимента по созданию в России города европейского типа. Автор обращает внимание на такие важные аспекты, как расхождение между усилиями власти и складывающейся в силу жизненных обстоятельств городской структурой, на созидающую роль крестьян в городе, на тот факт, что даже в условиях неустроенности, стесненных и суровых обстоятельств жизни именно своими повседневными стратегиями выживания «снизу» горожане по-своему осуществили то, что было запланировано властью в качестве проекта создания «вестернизированного» города [Кошелева 2004, с. 396]. Это исследование не только ценно как блестящий труд по истории повседневности, но оно еще и нравственно, потому что показывает значение «маленького человека» в создании грандиозной Северной столицы, а не только исторический дискурс, определяемый «железной волею Петра».
В истории повседневности, безусловно, есть место этике и ее художественному акцентированию текстом. В этом отношении актуально замечание А. Людтке, что повседневность – это еще и «детальное историческое описание устроенных и обездоленных, одетых и нагих, сытых и голодных, раздора и сотрудничества между людьми, а также их душевных переживаний. Воспоминаний, любви и ненависти, а также и надежд на будущее. Центральными в анализе повседневности являются жизненные проблемы тех, кто в основном остался безымянным в истории. Индивиды в таких исследованиях предстают и действующими лицами, и творцами истории, активно производящими, воспроизводящими и изменяющими социально-политические реалии прошлого и настоящего» [Людтке 1999, с. 77]. Может ли историку быть жалко своих героев? Имеет ли право исследователь испытывать чувство сострадания? Эти вопросы приводят нас к дискуссии о том, возможна ли объективная истина в исторической науке. Или каждый исследователь как живой человек, пропускающий через себя материал исследования, допускает в текст работы субъективность, связанную со своей собственной картиной мира.
В ситуации, наступившей в историографии после «лингвистического поворота» и «семиотического вызова», для исследователя крупной социальной общности, но изучаемой в контексте повседневного проживания жизни акторами и использующего делопроизводственные источники в качестве эгоисточников, вполне естественно опираться и на семиотические методы. В моем исследовании язык источника рассматривается не просто как средство коммуникации, а как «главный смыслообразующий фактор, детерминиру-ющий мышление и поведение», проводится принцип пристального вчитывания в тексты, использования новых средств для того, чтобы раскрыть то, что скрывается за прямым высказыванием и т. д. [Репина 2009, с. 242]. Поэтому активно используются и методы, идущие из лингвистики, позволяющие говорить об особой языковой картине мира горожанина – мещанина второй половины XIX – начала XX в.
Путь от так называемого эгоисточника массового происхождения к теоретическому его осмыслению привел к выводам о сложной игре повседневных практик, направленных на выживание и адаптацию к вызовам власти, совпадающим с теоретическими построениями французского историка, антрополога и социального философа М. де Серто, изложенными в работе «Изобретение повседневности. 1. Искусство делать» [Серто 2013]. Повседневность понимается М. Серто как поле постоянной борьбы «пользователей» или «потребителей» схем, навязанных властью, за превращение этого пространства в «свое». Главным объектом исследования М. де Серто выступают повседневные практики, представляющие собой «использование или потребление» той продукции, которая навязывается властью или господствующим порядком. Во время этих практик возникают процедуры повседневной изобретательности. Главный вопрос, на который стремится ответить М. де Серто, касается логики, которой подчинены практики. Эти практики «задействуют “народное” ratio, а именно – способ мыслить, инвестированный в способ действовать, искусство комбинирования, неотделимое от искусства использования» [Серто 2013, с. 44]. Зарубежная историография имеет в своем арсенале значительные накопления в области анализа повседневных практик. Этот историографический фундамент, используемый М. де Серто, включает работы П. Бурдье, И. Гофмана, М. Мосса, М. Детьена, Ж. Буасвэна, Э. Лауманна, Ж. Фишмана и др., которые разрабатывали теорию практик «как смесь ритуалов и бриколлажей, манипуляций с пространством, операторов сетей», а также процедур повседневных взаимодействий, «задействованных в структуры ожиданий, переговоров, импровизаций, присущих повседневному языку» [Серто 2013, с. 45–46]. Но, несмотря на такую опору, М. Серто замечает, что исследовать практики чрезвычайно сложно, так как они «раз за разом возмущают нашу логику и сбивают ее с толку» [Серто 2013, с. 47].
Размышления М. де Серто о маргинальности групп вполне соотносятся с русским мещанством и его «следом» в истории: «…именно в этом состоит культурная деятельность тех, кто не производит культуру, деятельность, не имеющая подписи, нечитаемая, несимволизируемая» [Серто 2013, с. 47]. М. де Серто выделяет, кроме того, понятия «стратегий» и «тактик». Под «стратегией» он понимает подсчет соотношений сил, который становится возможным с того момента, когда субъект, обладающий волей и властью, может быть вычленен из «окружающих условий», а под «тактикой» – «расчет, который не может опираться ни на «собственное» пространство, ни, как следствие, на границу, отделяющую другого как видимую целостность» [Серто 2013, с. 50]. При работе над анализом стратегий и тактик мещан в русском городе пореформенного времени вырисовывается их эволюция по мере усложнения городской жизни, вызванной модернизационными процессами, и искусственности сохранения сословных рамок вплоть до 1917 года, в то время как социальная стратификация городского социокультурного пространства начала XX в. уже была обусловлена в большей степени экономическим фактором, а не законодательно подтвержденными сословными границами. Даже визуально при анализе фотодокументов в городе начала XX века сложно становится идентифицировать представителей сословий по их внешнему облику и костюму. Новый язык городской моды, европейской городской моды, нивелирует визуальные типы сословий. И тем не менее до 1917 года повседневная жизнь мещан, как и представителей других сословий, продолжает проходить с учетом тех прав и обязанностей, которые обуславливает принадлежность к тому или иному сословию. В этой связи выявление повседневных практик сословного существования представляет несомненный научный интерес.
Заключение
Таким образом, изучение повседневной жизни мещан в России во второй половине XIX – начале XX в. оказалось возможным при использовании методов реконструкции социальных практик на микроуровне, уделении особого внимания восприятию повседневной жизни (в том числе символическому и эмоциональному) самими рядовыми людьми. Объяснительная схема реконструкции повседневных практик мещан во многом совпадает с достижениями германской школы Alltagsgeschichte [Людтке 2010] и с теорией повседневных тактик и стратегий М. де Серто. Так как сословная структура в дореволюционном российском обществе сохранялась до 1917 г., она создавала определенную программу повседневной жизни через законодательно прописанные права и обязанности представителей сословия. Реализацию на практике законодательного дискурса возможно рассмотреть и со стороны «маленького человека», и со стороны власти. Как поле вызовов и ответов, адаптаций, приспособлений, уклонений, то есть пользовательских практик.
Об авторах
З. М. Кобозева
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Автор, ответственный за переписку.
Email: zoya_kobozeva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4080-8349
доктор исторических наук, профессор исторического факультета, кафедра российской истории, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Россия, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, 34.Список литературы
- Бурдье 1994 – Бурдье П. Начала. Москва: Socio-Logos, 1994. 288 с. URL: http://bourdieu.name/fr/book/export/html/3.
- Журавлев 2000 – Журавлев С.В. «Маленькие люди» и «большая история»: иностранцы московского Электрозавода в советском обществе 1920–1930-х гг. Москва: РОССПЭН, 2000. 352 с. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18897123.
- История и антропология 2006 – История и антропология: междисциплинарные исследования на рубеже XX–XXI веков / под общ. ред. М. Крома, Д. Сэбиана, Г. Альгази. Санкт-Петербург: Алетейя, 2006. 320 с. URL: https://vk.com/wall-76284785_14353.
- Каменский 2007 – Каменский А.Б. Повседневность русских городских обывателей: исторические анекдоты из провинциальной жизни XVIII века. Москва: РГГУ, 2007. 403 с. URL: https://vk.com/doc189420323_542337158?hash=4a6c36d1dc4f23b53a&dl=f2975981b0faa7660e.
- Копосов 2005 – Копосов Н.Е. Хватит убивать кошек!: критика социальных наук. Москва: Новое литературное обозрение, 2005. 248 с. URL: https://royallib.com/book/koposov_nikolay/hvatit_ubivat_koshek.html.
- Кошелева 2004 – Кошелева О.Е. Люди Санкт-Петербургского острова Петровского времени. Москва: О.Г.И., 2004. 487 с. (Нация и культура / Новые исследования) (Труды по истории).
- Лебина 1999 – Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920–1930 годы Санкт-Петербург: Летний сад, 1999. 343 с. URL: https://royallib.com/book/lebina_natalya/povsednevnaya_gizn_sovetskogo_goroda_normi_i_anomalii_19201930_godi.html.
- Людтке 2010 – Людтке А. История повседневности в Германии: новые подходы к изучению труда, войны и власти [пер. с англ. и нем. К.А. Левинсона и др.; под общ. ред. и с предисл. С.В. Журавлева]. Москва: РОССПЭН, 2010. 271 с. URL: https://vk.com/wall-35831937_2844.
- Людтке 1999 – Людтке А. Что такое история повседневности?: ее достижения и перспективы в Германии // Социальная история: ежегодник: 1998/99. Москва, 1999.
- Пушкарева – Пушкарева Н.Л. «История повседневности» как направление исторических исследований. Режим доступа: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=50280. Загл. с экрана.
- Репина 2009 – Репина Л.П. «Новая историческая наука» и социальная история. Москва, 2009. 320 с.
- Савельева, Полетаев 2003 – Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: в 2 т. Т. 1. Конструирование прошлого: теория и история. Санкт-Петербург: Наука, 2003. 632 с. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/savel.
- Серто 2013 – Серто Мишель де. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать = Arts de faire [Текст] / Мишель де Серто; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной]; Европейс. ун-т в Санкт-Петербурге. Санкт-Петербург: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 329 с. (Прагматический поворот). URL: https://vk.com/wall-68638203_1851.
- Фуко 1999 – Фуко Мишель. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / пер. с фр. В. Наумова; под ред. И. Борисовой. Москва: Ad Marginem, 1999. 479 с. (Университетская библиотека: История; 1/16). URL: https://vk.com/wall-68638203_2381.
- Фуко 1994 – Фуко Мишель. Слова и вещи [Текст]: археология гуманитар. наук: пер. с фр. Санкт-Петербург: А-cad: АОЗТ «Талисман», 1994. 406 с. (Для научных библиотек).
Дополнительные файлы