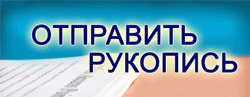Семиотика самоидентификации в эго-документах 1930-х гг.: на примере архива И.А. Гриневской
- Авторы: Сарычева К.В.1
-
Учреждения:
- Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН
- Выпуск: Том 4, № 2 (2024)
- Страницы: 69-77
- Раздел: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
- URL: https://journals.ssau.ru/semiotic/article/view/27644
- DOI: https://doi.org/10.18287/2782-2966-2024-4-2-69-77
- ID: 27644
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье анализируется семиотический механизм выстраивания личностной, литературной и гражданской самоидентификации писательницы И.А. Гриневской в ее эго-документах 1930-х гг.
Материалом исследования послужила переписка И.А. Гриневской с директором Центрального литературного музея В.Д. Бонч-Бруевичем и переданные ею в музей воспоминания («История моих Восточных поэм» и «Я среди людей мира (Мой энциклопедический словарь)»), которые по большей части писались одновременно с обсуждением передачи их в музей, в 1930-е гг. История передачи в музей архива впервые рассматривается с точки зрения столкновения личной воли владельца и государственной системы со стороны музея, как событие, которое привело к переписыванию личных документов и выстраиванию самоидентификации заново. Восприятие личных архивов определяет различие в отношении к государству: Гриневская выделяла себя из круга современников, она сама как свидетельница многих выдающихся людей и ее архив обладали символической ценностью, конвертируемой в денежный эквивалент, тогда как Бонч-Бруевич уравнивал ее с другими держателями архивов, требовал от нее служения государственному делу построения музея, гражданского самосознания, знаком которого считал акт передачи личных бумаг в музей. Как показано в статье, в переданных воспоминаниях писательница старалась примирить гражданскую и личную идентичность не только на уровне содержания, где прослеживаются знаки преданности государству и размышления о миссии писателя, но также в структуре и композиции повествования.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Согласно определению, приведенному в статье Е.Е. Бразговской «Семиотика идентичности» (Бразговская 2014), акт идентификации (отождествления) – «это семиотическая практика, основанная на обнаружении знаков идентичности, которыми актуализируется общий признак / признаки объектов внутри класса. Таким образом, семиотика видит отождествление сквозь призму иконического подобия» (Там же, с. 109). Процессы идентификации и самоидентификации Бразговская рассматривает как реализации модели отождествления: «Оба процесса основаны на отображении внешнего референта (объекта отождествления) и выделении знаков идентичности» (Там же).
Самоидентификация происходила во многих эго-документах 1920-х–1930-х гг., (анализ эго-документов советского времени см.: Хелльбек 2021; Паперно 2021). Согласно закрепившемуся в науке представлению о дуальности советской культуры, люди так или иначе отталкивались от государственной идеологии, в своем поведении они могли им следовать или уклоняться от официально заданных моделей поведения, но всегда согласовывали с ними свое поведение и образ. И.Ю. Савкина, проанализировав дневники авторов-женщин, показала, что для них существенным являлось соотнесение еще и с женскими моделями поведения (Савкина 2023, с. 334–354; с. 355–376). Для нашего исследования актуальными станут обе обозначенные модели самоидентификации. Привлекший наше внимание архив И.А. Гриневской мы будем рассматривать как один из возможных вариантов самоидентификации в эго-документах 1930-х гг. Мы будем рассматривать то, как сама писательница характеризовала свою идентичность, сравнивая ее высказывания в разных документах. Конечно, судить о том, насколько слова совпадали с ее внутренним самоопределением, в рамках нашего исследования, не представляется возможным.
Архив Гриневской относится к той части ее наследия, которая привлекает наиболее активный интерес исследователей (см. биографию: (Гришунин 1992; Митник 2006; Митник 2023; Виноградова 2011; Гриневская 2017; Гриневская 2019; Гриневская 2020; Леоненко 2018)). Мы обратимся к документам И.А. Гриневской, хранящимся в РГАЛИ (ф. 125, 580 ед. хр.), куда они поступили после смерти писательницы из Государственного литературного музея. В фонде хранятся переписка, статьи, очерки, афиши, вырезки из газет, старые описи архива. В РО ИРЛИ (1362 ед. хр.), куда Гриневская передала архив перед смертью, в 1944 г.,
многие документы дублируются, однако, фонд более обширный и в нем наличествуют, например, записные тетради Гриневской, которых нет в РГАЛИ. Отличаются обстоятельства и прагматика передачи архивов: документы в РО ИРЛИ Гриневская сдавала по собственной инициативе незадолго до смерти (Виноградова 2011). В Государственный литературный музей архив передавался по запросу его директора, Вл.Д. Бонч-Бруевича, несколько раньше, в 1930-е гг., последние комплекты документов музеем были получены в 1941 г.
Е.В. Леоненко проанализировала стратегии самопрезентации И.А. Гриневской как писательницы в ее эго-документах, находящихся в РО ИРЛИ (Леоненко 2022), в частности, в «Истории моих Восточных поэм», на которой мы также сфокусируем внимание. Кроме этого мы привлечем и ранее не изученные документы: переписку Гриневской с директором музея о передаче личных документов и воспоминания «Я среди людей мира (Мой энциклопедический словарь)». Все перечисленные документы документов относятся к 1930-м гг.
В рассматриваемом процессе подготовки архива и его передачи в музей сталкиваются интересы двух субъектов действия: государства и частного лица – владелицы личных документов. Основную цель своего исследования мы видим в том, чтобы, сравнив модели поведения и образ Гриневской, создаваемый ею в письмах, с одной стороны, и в мемуарах – с другой, понять, в какой мере модели и образы, идеологически предписанные государством, представителем которого являлся Бонч-Бруевич, были ею усвоены, какие приемы она использует для их воспроизведения. Реконструируемая в статье история проливает свет на обстоятельства музейного дела, поскольку позволяет поставить более общий вопрос о том, как влияло отчуждение личного архива, инициированное государством, на самоидентификацию владельца.
Ход исследования
Знакомство Вл.Д. Бонч-Бруевича и И.А. Гриневской произошло предположительно после того как в 1931 г. была создана Комиссия по устройству Центрального литературного музея и выявлению документов, и Бонч-Бруевич активно занялся поиском и приобретением личных архивов. Ему в этом помогали многие корреспонденты. От кого-то из осведомителей Бонч-Бруевич выяснил, что Гриневская пишет воспоминания, которые он хотел приобрести для музея. В письме к Бонч-Бруевичу от 9 ноября 1940 г.
Гриневская напоминала: «…вы первый обратились ко мне с предложением посылать Музею мои воспоминания и обратились ко мне в такой форме, которую я всегда ценила в отношении ко мне и которая всегда заставляла меня оказывать предпочтение материальным посулам» (РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 745. Л. 54). Сразу следует отметить, что термин «архив» и «воспоминания» в переписке и в самих документах Гриневской используются как синонимы. Под «архивом» Бонч-Бруевич понимал прежде всего «документы личного происхождения» – мемуары, дневники, письма.
В ответ на просьбы Бонч-Бруевича прислать архив Гриневская отвечала обещаниями. Она присылала не совсем то, что от нее ожидал директор музея, а очерки, статьи, книги и другие предметы из своей коллекции. Писательница пребывала в бедственном положении и благодаря продаже предметов в музей могла получить средства к существованию. В ее собственном понимании она сама как свидетельница ушедшей эпохи и выдающихся ее представителей, и, соответственно, предметы ее коллекции имели особую символическую значимость и должны быть по достоинству оценены государством. В то время как для музея архив Гриневской – один из большого множества архивов других держателей. Сама себя она выделяла из круга современников, и мужчин, и женщин: «…я выступала в качестве лектора часто и вместе с первоклассными профессорами и одна в самых многолюдных публичных собраниях, а в качестве декламатора с известнейшими артистами. В этом отношениями я являюсь уникум среди поэтесс, беллетристов, драматургов: (знаю всего несколько только мужчин поэтов, читавших публично лекции, особенно в таком окружении, как я. (И за все это – ничтожная пенсия, не могу удержаться, чтобы не воскликнуть)» (РГАЛИ, Ф. 612 оп. 1 ед. хр. 745. Из письма к Бонч-Бруевичу 9 января 1933 г. Л. 4об).
Отчуждая от себя эти предметы, символы собственной уникальности, Гриневская оставалась свидетельницей, но не имела уже вещественных подтверждений этому. В то же время музей оценивал предметы из ее коллекции так же, как предметы других владельцев. Музеем у Гриневской были закуплены бюсты: бюст Л.Н. Толстого работы Аронсона и бюст Гриневской работы Л.Л. Толстого; альбом с шаржами Поля Робера; комплект книг, приобретенных у нее за 300 р. Пенсия Гриневской в 1933 г. составляла 100 рублей, в конце 1936 г. – 200 руб. в месяц. Затем музей приобрел у нее альбом с шаржами Поля Робера, платой за который – 29 рублей, чем Гриневская была возмущена. У нее были также приобретены бюсты Аронсона Л.Н. Толстого, и ее бюст работы сына Толстого Льва Львовича за 150 р.
Недостаточно высокая оценка предметов ее коллекции – одна из часто повторяющихся тем в переписке (например, 11 апреля 1934 г. она выражала в письме к Бонч-Бруевичу надежду на то, что оплату за бюсты повысят). В то же время, видя, насколько для Бонч-Бруевича ценен архив, а именно воспоминания, и, нуждаясь в деньгах, могла бы получить хорошую сумму за него, она не торопилась его передавать, объясняя это тем, что ей нужно привести его в порядок и переписать. В одном из писем (8 июня 1939 г.) Гриневская поясняла, зачем ей нужно это делать: она якобы имела обыкновение писать на оборотных сторонах черновиков, и это было неудобно для чтения. Опасения писательницы понятны: она не хотела, чтобы эти черновики кто-то увидел.
С самоидентификацией себя как свидетельницы и хранительницы литературы согласуется и корпус документов, которые писательница передавала в музей: очерки и воспоминания о литераторах. На протяжении всех 8 лет переписки с Бонч-Бруевичем она постоянно, почти в каждом письме, интересовалась судьбой очерка о братьях Чириковых, который прислала для публикации в «Звеньях». Характерно, что Бонч-Бруевич принял этот очерк в редакционный портфель сборника, однако в фонд Гриневской он не был включен, поскольку такого рода тексты его не интересовали: в очерке о братьях Чириковых личная позиция автора затушевана, воспоминания замаскированы под литературно-критическое сочинение.
После долгих уговоров и просьб со стороны Бонч-Бруевича и уклонений Гриневской в их переписке весной 1934 г. заметно нарастает напряжение. В письме от 10 марта 1934 г. Бонч-Бруевич просит прислать архив и утверждает, что он слышит от других людей, что она работает над ним: «Жду не дождусь, когда Вы пришлете основной Ваш архив? Слышу со всех сторон, что Вы над ним много работаете и, наверное, все уже привели в порядок. Очень мне хотелось бы видеть хотя бы часть списка Вашего архива. Если что у Вас готово, пожалуйста, пришлите мне» (РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 745. Л. 26).
Возможно, намек в письме на то, что за работой Гриневской наблюдают, или другие обстоятельства, не упомянутые в переписке, подействовали на писательницу, но в следующем письме, машинописном, не датированном в отличие от других писем Гриневской, но имеющем номер (№ 3836), проставленный при регистрации в ЦЛМ, который позволил нам его отнести примерно к началу апреля 1934 г., происходит резкая перемена: Гриневская наконец дает подробную опись своего архива, в который включены очерки, рукописи, ее корреспонденция, и при этом преуменьшает его значимость:
«Мне приятно, что Вы проявляете интерес к моему архиву. Но чтобы вы не были разочарованы, скажу вам: в нем нет ничего архи стародавнего (ср. с тем, что она говорила в другом письме, что наоборот, стиль ее устарел и поэтому он не может быть интересен музею. – К.С.). Все материалы – состоят из моих сочинений, (1) вышедших книгами, 2) напечатанных в разных газетах и журналах и рукописных) и материалов, касающихся этих сочинений и меня, вернее, моей литературно-научной деятельности, а также сценической» (РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 745. Л. 29).
Опись архива должна была показать Бонч-Бруевичу преданность Гриневской государственному делу создания музея, что согласуется с выражением гражданского самосознания, очевидно, навязанное Бонч-Бруевичем, для которого гражданское самосознание означало готовность расстаться со своими документами:
«Верьте, глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич, что делаю все возможное для приведения в должный вид моего архива.
Еще раз прошу верить в мое искреннее желание делать все, что в моих силах в пользу прекрасного Вашего дела» (РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 745. Л. 32).
Ранее, как мы видели, Гриневская придерживалась нейтральной позиции по отношению к государству, не отождествляя, но и не противопоставляя себя ему. Теперь же государство, гражданское самосознание были обозначены как то, с чем она обязана была соотносить свое поведение. В приведенном письме она разделяет свои идентичности как «поэтессы» и как «гражданки», при этом гражданская идентичность, сопряженная с бытовыми неудобствами, ее тяготит. Она снова делает акцент на том, что она – женщина, в этот раз, как кажется, с целью вызвать у адресата снисходительное отношение: «Видите, глубокоуважаемый Владимир Дмитриевич, как вышеупомянутым двум женщинам поэтессе Из. Грин. и гражданке трудно справляться со всеми этими обстоятельствами» (РГАЛИ, Ф. 612 оп. 1 ед. хр. 745. Л. 31об).
Опись архива в понимании Гриневской, по-видимому, была только знаком преданности делу создания музея, чтобы вселить в своего корреспондента надежду. Однако и дальше Гриневская продолжала уклоняться от вопросов об «архиве», в письмах переводила тему обсуждения на свои статьи. Во второй половине 1935 г. Бонч-Бруевич начал психологически давить на свою корреспондентку, одновременно все больше втягивая ее в дело создания музея. Например, 11 ноября 1935 г. Бонч-Бруевич благодарил ее за то, что она помогает находить архивы и приведенный ниже пассаж прочитывается как угрожающее послание самой Гриневской:
«Благодарю Вас за постоянные хлопоты о нашем Музее и за то, что Вы всем постоянно о нем напоминаете. Но знайте, русскую публику надо долбить, как капля по капле камень долбит, так и камень этот – интеллигенцию надо раздолбливать и может быть через год и другой-третий энергия появится и тот или другой человек, имеющий архивы в конце концов поймет, что он может превратить свои материалы в рубли и купить себе то, что ему не хватает, наконец, расшевелится и пришлет» (РГАЛИ. Ф. 612. Оп. 1. Ед. хр. 745. Л. 67).
11 ноября 1936 г. Гриневская сообщала Бонч-Бруевичу, что отнесла на почту пакет с «образцами оформления архива», содержащий: «1) «Владимир Соловьев», воспоминания; 2) М.Г. Савина, Восп. 3) Мои первые начинания и Петр Исаевич Вейнберг в воспоминаниях». Она отмечала, что в тексте воспоминаний приводятся письма Вл. Соловьева, М. Савиной, П.И. Вейнберга, переписка с ним Достоевского, Тургенева, Рубинштейна и другие письма» (РГАЛИ, Ф. 612 оп. 1 ед. хр. 745. Л. 128).
31 мая 1939 г. в музей поступила машинопись 1 части «Истории моих Восточных поэм» (82 лл.) с правкой автора, эпизоды 2 часть «Истории…» передавались с 19 ноября 1939 г. по 13 мая 1940 г.,
вероятно, по мере готовности текстов. 2-я часть архива состояла из словаря «Я среди людей мира» («Мой энциклопедический словарь»), она передавалась в музей с 4 ноября 1940 г. по февраль 1941 г. и состояла из частей «Люди художественного слова», «Журналисты», «Люди науки». Соответственно, полный архив поступил в музей в 1940–1941 гг.,
когда Бонч-Бруевич был уже снят с поста директора, а место директора музея занял Н.В. Боев (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 4. Ед. хр. 34. Старые описи архива И.А. Гриневской).
Приведенная история передачи архива в музей и переписка с директором демонстрируют обстоятельства передачи личных документов и перемену в восприятии собственных бумаг и в отношении к музею как государственному делу. Гриневская хотела отдать в музей архив, видя свою значимость в том, чтобы быть свидетельницей знаменитых современников. Идентификация себя как гражданки и осознание ответственности перед государством и историей, по-видимому, была внушена Бонч-Бруевичем и предполагала передачу архива на хранение в государственный музей. Причем директор музея активно настаивал на том, чтобы хранительница собственного архива его не редактировала, т. е. – на отчуждении владельца от своих бумаг. С помощью манипуляций со своими документами Гриневская демонстрирует прямо противоположное отношение к собственным документам: она отправляет в музей именно то, что считает нужным для публикации, не спешит передавать архив, тщательно его редактирует, т.е. воспринимает его как свою собственность, и редактирование архива можно понимать как способ вернуть себе владение своими же документами. Переписка также позволяет увидеть, на что обращал внимание Бонч-Бруевич и что, понимая это, Гриневская старалась скорректировать, акцентировать или убрать, и именно зная об этом, мы должны рассматривать «Историю моих Восточных поэм» и «Я среди людей мира. (Мой энциклопедический словарь)».
Примечательна форма переданных текстов. Оба комплекта архива, как «История моих Восточных поэм», так и «Я среди людей мира» («Мой энциклопедический словарь») являются воспоминаниями, в которых индивидуальное, психологические и бытовые подробности жизни автора скрыты. В первом из них Гриневская повествует о работе над главнейшими в своей творческой деятельности произведениями, историю постановки пьесы «Баб», восприятия в критике, путешествия на Восток и др. Вторая часть архива представляет собой словарь, систематизированный по тематическому и алфавитному принципу, куда она занесла всех людей из различных сфер культуры. Сведения, которые попали в словарь, прежде всего, касаются литературы. Гриневская избегает подробностей о личной жизни, психологии, быте. Такая характерная для мемуаров черта как исповедальность здесь тоже отсутствует.
На уровне названия также переплетаются отстраненно-обезличенное («архив», «история», «энциклопедический словарь») и более личное метаописание в форме притяжательного местоимения 1-го лица («моих … поэм», «мой архив», «Я среди людей мира (Мой … словарь)»).
Повествование «Истории…» охватывает годы с начала 1900-х по 1917 г. Оно открывается кратким предисловием к «Моему архиву», в котором Гриневская декларирует, что приводила архив в порядок (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 1), поскольку его «многие изъявили желание приобрести всецело и, между прочим, выразила желание и дирекция Гослитмузея в Москве» (Там же). Здесь же Гриневская рассуждает о том, что такое «письмо» и «воспоминания» и приходит к выводу, что «воспоминания всегда субъективны и всегда говорят о пишущем больше, чем об объекте повествования» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 3).
В самом повествовании Гриневская избегает сходства с эго-документами, мемуарами, как с текстами, в которых она бы предстала свидетельницей эпохи. Этот уход от эго-повествования, вопреки жанру мемуаров, заметен уже на первых страницах «Истории…», которая начинается с интервью Гриневской сотруднику «Биржевых ведомостей». В этом интервью собеседник писательницы спрашивает ее о том, как появился замысел пьесы «Баб» о персидском пророке. Гриневская цитирует интервью без изменений и собственные слова приводит в третьем лице. Однако зная, что Гриневская редактировала архив, можно предположить, что она сознательно поместила свои реплики из интервью под общей рамкой чужого текста, поскольку такой прием позволял придать больший документализм и достоверность тексту по сравнению с повествованием от 1-го лица, но также отстраненность автора от событий прошлого и дистанцированность автора от своего «я».
В то же время в форме интервью изложено собственное, личное отношение Гриневской к социальным проблемам, повлиявшее на ее творческий замысел:
«– Меня часто спрашивают, – сказала <…> И. А. Гриневская, – почему я остановилась на таком сюжете. На это отвечу: каждое растение берет из земли необходимые для питания элементы. Мое сердце с самой ранней юности болезненно переживало вражду нетерпимости и ненависти, свидетельницей которых мне приходилось быть постоянно. Мою драму считают ученым трудом, раскрывающим душу мусульманского Востока, но она вместе с тем выражает мое личное страдание и сострадание к человечеству» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 9).
Дальнейшее повествование перемежается собственными воспоминаниями и отзывами современников о творчестве Гриневской. Она пишет о ходе работы над пьесой и изучении материалов на тему персидского учения и пророка Баба: «Первое время мои наброски относились даже не к пьесе, а к философскому труду, в котором я тогда думала отразить и развить мои мысли. Совершенно случайно в мои руки попала книга Дьелафоа, о Персии, и личность Баба, начертанная неполно и бегло в этой книге натолкнула меня на изучение Востока и дальнейшие изыскания» (Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Крайние даты 1939–40 гг. 9об).
Закономерен отбор исторических событий и прагматика их интерпретации в «Истории…». Например, Гриневская упоминает русско-японскую войну и возмущается царской цензурой, которая сняла с репертуара ее пьесу:
«В ней изображена революция. Но разве возможна была бы проповедь мира среди мирных и без того полей. А разве не полезно всем знать, что таится в бушующих волнах моря, какие рифы в нем и мели, что гнездится в мятежных сердцах, какие беды терпят люди, какие нужны можно утолить?... (…) А боялись «страшных» слов и того, что устами «мусульманина» произносятся христианские истины… (…)
По этому поводу я написала письмо в редакцию «Pet. Zeitung», когда она осудила именно это и позу Тинского в 3 акте.
– Я вам сделаю сюрприз на первом представлении, – сказал мне артист.
Сюрприз состоял в том, что в 3 акте, в молитве своей среди умирающих бойцов-бабидов, он принял позу Христа на картине «Моление о чаше»!! Вот-то “сюрприз”. Я знала – он даром не пройдет.
И эта новая поза тоже была причиной запрета пьесы» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 41).
Завершаются же мемуары рассуждением о революционных событиях 1917 года и советском правительстве, которому Гриневская выражала признательность за обеспечение ей жизни в старости, и что благодаря этому она не чувствует себя забытой (как мы помним, в письмах она, наоборот, говорила о недостатке в средствах и недостаточной помощи государства):
«…в самое тяжелое время Советское правительство пришло мне на помощь. Оно оценило значение моих писем. Благодаря отзыву, написанному Державиным и подписанному нашими учеными, – я была спасена от отчаяния, от полного разочарования в необходимости работать для этого «общего блага», – что было задачей всей моей жизни. Получая с 1926 года персональную пенсию, я ныне чувствую себя обеспеченной» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 180).
В результате использования перечисленных приемов индивидуальное отношение к людям и событиям, личность, психологический облик повествовательницы оказываются скрытыми, затемненными взглядом со стороны, описанием внешних событий, изложением событий с позиции того, как того требовала идеология. Окружение и себя она описывает с помощью «Истории…» своих главных произведений, с их помощью вписывая себя в историю, в литературный круг столицы.
Как и в переписке, но более отчетливо и последовательно, в воспоминаниях появляются попытки соотнести свое поведение с женскими или мужскими моделями. Иногда Гриневская прямо сравнивает свое поведение с тем, что требовало и ожидало общество от женщины (ср. с письмом, в котором она пишет, что не каждый мужчина может похвастаться таким окружением, как она), осознавая, что ее поведение, и в литературе, и в быту, не вполне вписывается в традиционные рамки поведения женщины. Так, например, она приводит свои слова из интервью в 1904 г., в которых оценивает себя как бы со стороны, моделируя взгляд писателя-мужчины: «Ведь известно по рассказу Чехова: если дама написала драму, надо ее убить. А тут еще драма дамы даже в стихах! Кому нужны драмы в стихах, если это не драмы Пушкина, Алексея Толстого или подобных корифеев. (…) А тут драма дамы, да в стихах, да сплошь в рифмах, да из персидской жизни, да еще название какое незвучное – “Баб”» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 10).
Здесь же Гриневская говорит о восприятии собственного творчества. В своих глазах она была серьезной писательницей: «Никому, очевидно, из газетных и журнальных деятелей не было известно, что первым моим оригинальным произведением был очерк о французском моралисте XVI века Мишеле Монтень, и его Essais» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Крайние даты 1939–40 гг. Л. 10).
Далее, перейдя уже к повествованию о работе над пьесой «Баб», она рассматривает творческий процесс как жертву творчеству, искусству и обществу. В этих «мемуарах» «жертва» женщины-писательницы заключается в отказе от светских увеселений (балов и путешествий):
«Я была охвачена моими идеями. Они толпились в моем мозгу и не давали места ничему, что вне их области. Я двигалась в обыденной жизни, как сомнамбула. Меня уже не влекло то, что меня прежде радовало. Вот я помню вечер, скорее, бал, к которому готовилась было заранее. Для танцев, которые любила и в которых отличалась, должен был играть известный тапер. Однако я на этот вечер не пошла. Не хотела разбить свое настроение – я уже приступила к моей поэме!.. Пожертвовала возможностью танцевать под игру знаменитости и услышать множество обычных комплиментов!!
Отказалась, помимо писанного, от такого соблазна, пред которым вряд ли устоял кто-либо, особенно женщина, особенно такая, которая обладала значительным преимуществом наружности. Вы думаете – это малая жертва?!» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 14).
В преамбуле ко второй главе Гриневская весь свой опыт сочинения описывает как «жертву»: «Расскажу об этой жертве длинно, со всеми подробностями и обычными отступлениями воспоминателей» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 14).
От других женщин Гриневскую отличало, по ее собственным словам то, что она смогла отказаться от поездки в Париж на Всемирную выставку: «После мучительного колебания, я отказалась от этой заманчивой поездки. Я начала писать «Баба», делала важные наброски!.. (…) Я думаю, всякая женщина с радостью ухватилась бы за возможность увидеть мировую столицу – в ней весь мир посмотреть и самой пред миром покрасоваться. А ведь я была не только молодая, но, как уверяли, вдобавок и красивая!..» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 15об).
Таким образом, любовь к развлечениям Гриневская здесь трактует как особенность женского образа жизни, вероятно, артикулируя общее, традиционное, а не только свое представление. В то же время специфический женский опыт, опыт материнства, который у нее был, опыт замужней жизни остаются за пределами повествования.
Жертва светской жизнью во имя творчества сопровождалась для Гриневской отказом и от следования канонам женственности во внешнем виде. В подтверждение этому она приводит здесь слова музыкантки Анны Дмитриевны Новицкой: «…она была против моей слишком скромной прически и что я брезгала пудрой. «Почему? Вы были бы, Белочка еще красивее». Но я не поддавалась ее внушениям этого рода. Не пудрилась и хранила, по возможности, молчание» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 17об).
Расхождения с поведением, которое ожидалось от женщины, Гриневская обнаруживает и в процессе подготовки к постановке пьесы в театре. Например, когда один из актеров отказался играть в постановке ее пьесы, Гриневская отметила, что отреагировала хладнокровно, не впала в истерику: «Удар был слишком жестокий даже для сильного мужчины, закаленного в житейской борьбе за существование! Ведь отказ Бравича играть в двух последних актах грозил бы отменой спектакля, но я мужественно вынесла этот удар (не мужественно, а чудодейственно) и воскликнула несвойственным мне в обыденных отношениях голосом, а голосом сценическим, какой требуется в декламациях со сцены.
(…)
…не уронила знамя настоящего писателя, что я, как женщина, не билась тут же в истерике, не упала в обморок!» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 33–34).
С одной стороны, у Гриневской, очевидно, перед глазами были каноны женственности, от которых она отказывалась, с другой стороны, одной из моделей самоидентификации для нее является писатель, который совершает миссию, служит через свое творчество обществу, жертвует собой. Например, о своем юбилее она пишет: «Только тогда, когда он создал произведение, в котором исчерпал до глубины свою душу, в которую вложил всю веру, все сострадание, весь восторг своей души, – только тогда она может сказать: «я писатель, я – поэт, я – пророк»» (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 65).
В соотнесении своего поведения и облика с традиционными женскими моделями, Гриневская, на наш взгляд обнаруживает в себе черты, которые выделяют ее из круга современниц и эти же характеристики отличают и о мужчин-современников. Гриневская идентифицирует себя как художника-творца, мессии, приносящего жертву ради блага людей. У Гриневской этой жертвой является отказ от женственности. В результате редактирования, оценка собственного поведения в рамках традиционных представлений о женственности, переплетенная с литературной идентификацией, оказалась одним из главных проявлений индивидуальности в мемуарах, замаскированных под очерк об истории поэм.
«Мой энциклопедический словарь» «Я среди людей мира» представляет собой другой вариант передачи воспоминаний. На первый взгляд, в нем каталогизированы люди, значимые в судьбе писательницы. В то же время здесь нет хронологического деления: на людей из отдаленного прошлого, с которыми она не могла быть знакома (так, в словаре есть статьи о Гоголе, Жуковском, Викторе Гюго, Данте, Лермонтове) и с кем она была лично знакома. Писательница таким образом дистанцировалась от контекста начала ХХ в. и от современников. Позиция Гриневской в энциклопедическом словаре согласуется с тем, что она писала о себе в других документах, в переписке с Бонч-Бруевичем и в «Истории моих Восточных поэм»: она вписывает себя прежде всего в литературный контекст и мыслит себя свидетельницей литературных событий и явлений своего времени.
В статье о Лермонтове, например, приводятся впечатления от чтения его поэзии, пересечениях с ним, о том, что критик Басаргин отмечал сходства в пьесе «Баб» с лермонтовским творчеством (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 22. Воспоминания. «Я среди людей мира» или «Мой энциклопедический словарь». Раздел «Люди художественного слова». Л. 9). Также упоминаются эпизоды, когда Гриневской предложили написать стихи для песни к юбилею Лермонтова и что Литфонд обеспечил Гриневской санитарку, которая обслуживала и родственниц Лермонтова. Снова, как мы видим, подчеркивается забота о писательнице со стороны советской организации.
Часто статьи представляют собой цитирование переписки: так выглядит статья об Анненском и многие другие. Подробный очерк посвящен П.Н. Ариан и ее роли в женском движении и борьбе за права женщин (РГАЛИ. Ф. 125. Оп. 1. Ед. хр. 23. Воспоминания. «Я среди людей мира» или «Мой энциклопедический словарь». Раздел. «Журналисты». Л. 6об).
В словаре повествование от первого лица появляется практически только в цитатах из писем, отсутствует непрерывное повествование о себе, в котором прослеживалась бы рефлексия о себе и своем творчестве, которая есть в «Истории…». Таким образом в воспоминаниях «Я среди людей мира» проблема самоидентификации нивелируется.
Заключение
Изложенная в статье история демонстрирует, как сам процесс отчуждения личных документов и передачи их в государственное хранение проблематизировал вопрос самоидентификации для владелицы архива и создавал необходимость заново выстроить идентичность, отталкиваясь от новой идеологии. В переписке мы увидели, что изначально Гриневская идентифицировала себя как литератора, свидетельницу многих выдающихся современников. Под влиянием Бонч-Бруевича у нее появляется новое определение себя как «гражданки», которое противопоставлено определению «поэтесса». Самоидентификация как гражданки, в понимании Бонч-Бруевича, проявляется в акте передачи архива, составленного из личных документов, и, передавая в музей архив, Гриневская демонстрирует тем самым гражданскую идентичность. В переданных документах Гриневская, хотя и сохраняла интенцию говорить о себе, однако старалась маскировать эго-повествование под формой рассказа от 3-го лица. В «Истории моих Восточных поэм» повествование идет от 1-го лица, хотя и в основном сфокусированное на истории произведений и пространными цитатами из чужих текстов, однако индивидуальность писательницы раскрывается в ее рассуждениях о следовании канонам женственности и о ее предназначении в литературе. В «Моем энциклопедическом словаре» за счет самой выбранной формы отсутствует непрерывное эго-повествование, оно спрятано в цитаты из писем, и в результате этого вообще исчезает проблема самоидентификации, актуальная для «Истории моих Восточных поэм».
Об авторах
Кристина Витальевна Сарычева
Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: kr.sarycheva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1357-900X
кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького РАН
Россия, 121069, Российская Федерация, г. Москва, ул. Поварская, д. 25а, стр. 1Список литературы
- Бразговская Е.Е. Семиотика идентичности // Вестник Пермского государственного университета. Российская и зарубежная филология. 2014. Выпуск 4(28). С. 108–115.
- Виноградова Е.В. Гриневская Изабелла Аркадьевна: фонд 55 // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2009–2010 годы. Санкт-Петербург, 2011. С. 1102–1103.
- Гриневская И. А. Путешествие в Края Солнца (о виденном, слышанном и испытанном) [главы I–VI] (Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Е. А. Митник) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2016 г. Санкт-Петербург, 2017. С. 434–491.
- Гриневская И.А. Путешествие в Края Солнца (о виденном, слышанном и испытанном) (Продолжение) [главы VII–VIII] (Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Е. А. Митник) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2018–2019 гг. Санкт-Петербург, 2019. С. 271–287.
- Гриневская И.А. Путешествие в Края Солнца (о виденном, слышанном и испытанном) Продолжение) (Вступительная статья, подготовка текста и комментарии Е.А. Митник). // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 2020 год. / Российская Академия наук. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); отв. ред. Т.С. Царькова. Санкт-Петербург, 2020. С. 387–404.
- Гришунин А.Л. Гриневская Изабелла Аркадьевна. Русские писатели. Библиографический словарь. Т. 2. Г–К. Москва: научное издательство «Большая российская энциклопедия» ФИАНИТ, 1992. С. 44–45.
- Леоненко Е.В. К истории создания драматической поэмы «Баб» Изабеллы Гриневской // Литературные события и феномены XX–XXI веков: год 2016. Материалы заочной интерактивной конференции (Санкт-Петербург, ИРЛИ РАН, 4–7 июля 2016). Кн. II. Санкт-Петербург; Воронеж, 2017. С. 46–53.
- Леоненко Е.В. И.А. Гриневская, забытый автор Серебряного века, и истоки ее драматической поэмы «Баб» // Русская литература в иностранной аудитории: Сборник научных статей. Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. С. 31–39.
- Леоненко Е. Архив Изабеллы Гриневской: стратегии саморепрезентации // Revue des études slaves [En ligne], XCII-1 | 2021, mis en ligne le 01 janvier 2022, consulté le 28 avril 2022. URL: http://journals.openedition.org/res/4308; DOI: https://doi.org/10.4000/res.4308.
- Митник Е.А. Неизвестные материалы Изабеллы Гриневской: «Путешествие в Края Солнца» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2005–2006 гг. Санкт-Петербург, 2006. С. 246–267.
- Паперно И. Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения. Москва: Новое литературное обозрение, 2021. 320 с.
- Савкина И.Ю. Пути, перепутья и тупики русской женской литературы. Москва: Новое литературное обозрение, 2023. 470 c.
- Хелльбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. Пер. с англ. С. Чачко. 2-е изд. Москва: Новое лит. обозрение, 2021. 416 с.
Дополнительные файлы