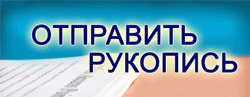Полный текст
Введение
Предмет предлагаемой статьи – конкретное выражение сакрального в двух стихотворениях И.А. Бунина, которые начинаются словами «Свод радуги – Творца благоволенье…», «Две радуги – и золотистый, редкий Весенний дождь».
При вхождении в сакральное пространство человек должен или узнать «знаки» его проявления, или должен быть предупрежден, что «это место» – место священное, опять-таки предупрежден с той целью, чтобы видеть, научиться видеть-узревать сакральное и в лучшем случае быть причастным к нему, «быть здесь» хотя бы в восприятии-переживании «частью», «живой частицей» этого «общего дела» (литургии).
Конечно, хорошо, когда есть кому предупредить, что «здесь» «земля святая»: «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Исход 3: 5).
Но как быть человеку «здесь сегодня», когда предупредить вроде бы некому: «…современный человек лишил священного свой мир и принял светское существование. Достаточно лишь отметить, что эта утрата священности характеризует весь опыт нерелигиозного человека в современных обществах и что вследствие этого современный человек ощущает все более серьезные затруднения в понимании масштабов бытия» (Элиаде 1994, с. 18–19).
О том, что сакральное есть, бытийствует, предупреждают тексты и контексты культуры, продолжающие неустранимо хранить «знаки» священного и творить иеротопию для всякого чуткого человека, восстанавливая тем самым в нем «понимание масштабов бытия».
Парадоксально, но точно: «масштаб бытия» – это не его количественное измерение и не его качественные характеристики, а духовное. По этому поводу М. Элиаде пишет: «Между элементарной иерофанией, например проявлением священного в каком-либо объекте, камне или дереве, и иерофанией высшего порядка, какой является для христианина воплощение Бога в Иисусе Христе, есть очевидная связь преемственности. И в том и другом случае речь идет о таинственном акте, проявлении чего-то “потустороннего”, какой-то реальности, не принадлежащей нашему миру, в предметах, составляющих неотъемлемую часть нашего “естественного” мира, т.е. в “мирском”» (Элиаде 1994, с. 17).
Вот о такой «элементарной иерофании», сохраняющей «очевидную связь преемственности» с «иерофанией высшего порядка» – о сакральном содержании двух стихотворений Бунина – и пойдет речь в данной статье.
Постановка проблемы и определение понятий
В предыдущей статье, посвященной типологическому описанию сакрального в творчестве Бунина, была обоснована возможность присутствия сакрального в тексте и показаны «механизмы» (сущности) и минимально-достаточная структура его выражения «Только я да Бог» (Бунин 1965–1967, т. 8, с. 25), а также был поставлен вопрос ситуативно-качественного порядка: хорошо, когда сакральное в «сверхзнаках» обнаруживается («И сказал Бог: место, на котором ты стоишь, есть земля святая»); а как быть, если «не сказал Бог», а «земля», на которой «я» стою, нейтральна, то есть в ней есть «знаки» сакрального, которые «я» не замечаю, не «считываю». И повторим: одно дело, когда в художественном тексте Бунина наличествует «И сказал Бог», есть сверхсущностная духовная «реалия», узнаваемая по Имени своему и по месту в ценностной иерархии мира (волей-неволей сакральное «сверхзнаково» Именем обозначено), и другое дело – и как быть в таком случае, –
когда в пространство текста «попадают» «образы» природы (радуга, небо, океан) или привычные продукты (хлеб, вино), которые «с первого взгляда» вне религиозного контекста и узнавания к духовным реалиям никак не отнесешь, но которые такими являются. Есть только один путь – нужно увидеть, опознать: «…и виждь и внемли / Исполнись волею моей» (Пушкин 1977–1979, т. 2,
с. 304). А увидеть можно только через соотнесение «малого» с «большим» на основе равной доли Его присутствия в том и в другом (Беркли 1913), через «очевидную связь преемственности» с «иерофанией высшего порядка». В Евхаристии такая «доля», «частица» называется таинством «пресуществления», «преложения».
Чтобы прояснить мысль и было понятно, о чем идет речь, о каком «пресуществлении» природного в духовное, обратимся к литургическому опыту Церкви. Протопресвитер и богослов о. Александр (Шмеман) в работе «Евхаристия: Таинство Царства» пишет: «Хлеб и вино. Принося и полагая на престол эти смиренные человеческие дары – нашу земную пищу и питье, – мы совершаем, часто и не думая об этом, то древнейшее, исконнейшее священнодействие, которое с первых дней человеческой истории составляло сердцевину всякой религии, – мы приносим жертву Богу» (Шмеман 2006, с. 50).
В другом месте о. Александр (Шмеман) словами молитвы ходатайства, «дошедшей до нас в византийском литургическом предании», в Литургии св. Василия Великого, объясняет суть «претворения», «преложения» в «двухактном» действии («священнодействии»): Бог своей «жертвой» возвращает в преумноженном виде ту «жертву Богу», которую мы Ему принесли и которую «мы» обнаруживаем в себе посредством этих же самых даров в «пресуществленном» виде – в виде жертвы благодати (с Его стороны) и нашей неизрекаемой радости «быть здесь» (Шмеман 2006,
с. 116–118): «Нас же всех, от единого Хлеба и Чаши причащающихся, соедини друг ко другу во единого Духа причастие…» (Шмеман 2006, с. 118); (Булгаков 1930, № 20, с. 3–46; № 21, с. 3–33).
Бунин понимал и переживал смысл произносимых во время литургии слов о причастии. Он всю свою жизнь уподоблял таинству Евхаристии: «Жизнь моя – трепетное и радостное причастие вечному и временному, близкому и далекому, всем векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на этой земле, столь любимой мною. Продли, Боже, сроки мои!» (Бунин 1965-1967, т. 5, с. 314–315).
Эту же мысль о преображении пространства, о явленности иеротопического «здесь и сейчас» можно выразить и в обобщенной, отстраненно научной форме. М. Элиаде, выделяя священное и противопоставляя его мирскому, тем не менее вскрывает сущность проступания в мир духовного: «Всякое священное пространство предполагает какую-либо иерофанию, некое вторжение священного…» (Элиаде 1994, с. 25).
Слово «иерофания», вводимое М. Элиаде для обозначения сакральных пространств, как нельзя полно удерживает комплексы смыслов, «очерчивающих», определяющих это пространство. Если ориентироваться на авторитетный для XIX века словарь И.Ф. Синайского, то составляющие компоненты слова «иерофания» значат: ἱερός – «божественный, священный, святой, освященный, посвященный» и в локализации – «святыня, храм» (Синайский 1879, ч. 1, с. 365),; φαίνω – «являю, показываю, делаю видимым, произвожу, произношу, даю услышать, звучу; обнаруживаю, доказываю; делаю ясным…» (Синайский 1879, ч. 2,
с. 264).
С реалиями (природными явлениями) в духовной лирике совершается тоже нечто «литургическое». Там, «претворяясь», они обнаруживают в себе уже и священное, существуют в иеротопии, в сакральном пространстве, участвуют в его образовании: обретают в себе высшую свою сущность в свете Бога и в соотнесении с Ним и, «пресуществляя» уже текст (лирику), наделяют его другим статусом и содержанием: иерархически ценностно его выстраивают, дают «качество» и определяют человеку «место соизмерения» с абсолютным. В результате такого «семиотического священнодействия» текст становится реально духовным, то есть все антропологизированные отношения и связи в мире, не утрачивая своей реальности, «перестраиваются» – насыщаются смыслами Его присутствия: радостью, благодарением и надеждой.
Ход исследования
Как реальность обычного (природного) становится в тексте «пресуществленным» «знаком» духовной действительности, соединяющим в себе, в своей явленности материальность природного и духовность небесного, можно обнаружить в стихотворениях Бунина «Две радуги» (1903–1906) и «Радуга» (1922).
«Радуга»
Так как в первом стихотворении – «Две радуги» – «пресуществление» менее заметно и даже скрыто, а в «Радуге» оно изображено со всей очевидностью полноты Божьего присутствия, то целесообразно в объяснительно-методических целях обратиться вначале именно ко второму стихотворению:
Свод радуги – Творца благоволенье,
Он сочетает воздух, влагу, свет –
Всё, без чего для мира жизни нет.
Он в чёрной туче дивное виденье
Являет нам. Лишь избранный Творцом,
Исполненный Господней благодати, –
Как радуга, что блещет лишь в закате, –
Зажжётся пред концом. (т. 8, с. 12)
Н.И. Макарова, рассматривая христианскую символику радуги и передавая общее настроение от созерцания природной радуги, явленность которой соизмерима с чудом, пишет: «…появление радуги в виде величавой небесной дуги, окрашенной сияющими цветами, вызывает ощущение чуда» (Макарова 2019, с. 411).
Но в стихотворении Бунина радуга вызывает переживания тройного чуда: радуга и природное явление, и Божье благоволение, но в первую очередь она есть вечное «напоминательное свидетельство» человеку о высшей реальности: радуга прежде всего есть «Творца благоволенье» – она не сама по себе.
Как видим, уже в первой стихотворной строке благодаря соподчинительному соотнесению радуги с Творцом, благодаря энергии «претворения» радуга становится не просто природным явлением, а благоволением Творца, – восходит к другому –
сакральному – пространству (точнее – к «точке» порождения его), освещает и освящает его.
Первая строка, чтобы семантически и духовно (религиозно, «связно», так как религия есть связь между человеком и высшей реальностью) быть проясненной, требует и конкретного библейского контекста, – только тогда она может отозваться в сознании читающего более глубокими смыслами и определенными переживаниями. Она есть краткая поэтическая реминисценция, напоминание о завете Бога с человеком, о котором впервые говорится в книге Бытия. Радуга – знамение завета Бога с Ноем, которому было даровано спасение после потопа: «И сказал Господь Бог: вот знамение завета, который Я поставлю между Мною, и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением вечного завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на землю: то явится радуга Моя в облаке, и Я вспомню завет Мой <…> и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти» (Бытие 9: 12–15).
Толкование данного откровения Господа нужно доверить иерарху Русской Церкви святителю Филарету (Дроздову), тем более что святитель при раскрытии смысла завета Бога с Ноем использует «семиотический подход»: «Царство благодати и веры Бог обновляет заветом, который он обещал <…> Предмет завета есть обещание сохранения со стороны Бога, а со стороны человека – верование обещанию и соединенному с ним знаку. Сие, одною верою постигаемое, сопряжение невидимой вещи с видимым знаком составляет самую отличительную черту сего завета, без которой он был бы только благословением или обетованием в царстве природы, но которая дает ему свойство таинственное и благодатное. Слово и Таинство суть существенные принадлежности Церкви. Знамением завета избрана дуга в облаке. Сопутствуя обыкновенно дождю, она долженствовала представлять человекам образ начинающегося потопа, но Бог хочет, чтобы она уверяла их о безопасности от потопа. Такое сопряжение знака с означаемым особенно отражает в себе свойство завета. Являя знамение безопасности в самом действии опасности, Бог сколько возвышает благодать, столько искушает веру <…> Дуга, как печать завета сего, есть образ благодатного действия в душах Солнца правды (Мал 2). Три главные цвета радуги: огненный, червленый и смарагдовый (зеленый), изобразуют огнь Божия правосудия, кровь Христову, Его угашающую, и благодатное обновление жизни» (Филарет 2004, с. 244–245).
Стихотворения Бунина о радуге как о знамении завета есть высказывание, обозначающее и воплощающее связь с «онтологией» восприятия и толкования «знаков» Божественного присутствия «здесь и сейчас». Оно само по себе есть запечатление особой сферы духовного мировосприятия человека, выражение глубин и высот национального самосознания, не порвавшего еще с опытом религиозного переживания и нашедшего осуществление в «оздоровительной» художественной форме (в духовной лирике).
В стихотворении Бунина радуга – это не только природное чудо, созерцать которое может «физический глаз», и даже не только «знамение вечного завета» между Богом и человеком. Она именно «Творца благоволенье». Бунин предельно эмоционально-духовно точен в переживании сути отношения Бога к человеку. Господь не просто сказал и совершил, а проявил благоволение: «Когда люди видят радугу после бури, они могут успокоиться, вспомнив, что “не будет более вода потопом на истребление всякой плоти” (Быт 9: 15). Таким образом здесь радуга играет роль образа Божьей милости и мира после бури суда» (Словарь 2005, с. 974).
Важно наметить и масштаб, историческую глубину, укорененность бунинского восприятия в религиозной традиции прошлого. В связи с этим следует привести предписания Талмуда, точно передающие иерархию отношений при созерцании радуги: «Увидя радугу, произносят: “Благословен Верный Своему завету”» (Талмуд 1902, т. 1, с. 33). Все эти (и другие) источники одинаковым образом сообщают радость переживания абсолютно сокровенной связи человека и Бога: душевное ликование вызывает не только (не столько) сама радуга, а Его благоволение, явленное в радуге, Его милость к человеку: Человек! Не будет больше потопа – так Господь обещал, «сказал Бог».
Примечательно, что Бунин в «знаках» Его присутствия («Он сочетает воздух, влагу, свет – / Всё, без чего для мира жизни нет. / Он в чёрной туче дивное виденье / Являет нам») пробуждает как чувства благодарности Творцу, так и «библейскую память» читателя, которая может отсылать к религиозному опыту и традиции, в данном случае, например, к видению в книге пророка Иезекииля и к Откровению Иоанна Богослова.
В книге пророка Иезекииля описывается видение пророком славы Господней: «…отверзлись небеса, и я видел видения Божии <…> И я видел, и вот, бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него <…> и ниже я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом» (Иезекииль 1: 1, 4, 27–28).
В изображениях, основанных на видении Иезекииля, радуга связана с Богом во славе («было подобие престола по виду как бы из камня сапфира» (Иезекииль 1: 26), а в целом картина видения строится на нераздельном противопоставлении, соотнесении грозного, устрашающего и сияющего: «бурный ветер» и «великое облако», с одной стороны, и с другой – «клубящийся огонь», «сияние». Библейское цветовое сопряжение противоположного, соединенного в Боге, сохраняется и в стихотворении Бунина: «Он в черной туче дивное виденье являет нам…» («…отверзлись небеса, и я видел видения Божии»).
Неслучайность (и/или возможность) контекстного присутствия «образов» Откровения Иоанна Богослова в стихотворении «Две радуги» поддерживается устойчивым интересом Бунина к этому источнику. В 1901 году им создается стихотворное переложение четвертой главы Откровения Иоанна «Из Апокалипсиса»: «И радуга, подобная смарагду, / Его престол широко обняла…» (т. 1, с. 156) –
«…и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду» (Откровение 4:3). Примечательно, что Бунин эсхатологическую тональность Апокалипсиса в «присутствии» радуги преобразует в настроение надежды на благодать: «Исполненный Господней благодати».
В стихотворениях «Две радуги» и «Из Апокалипсиса» совпадают не только духовные «предметности» (радуга), но и мотивы креативного благоволения Творца: «Он сочетает воздух, влагу, свет – Всё, без чего для мира жизни нет» – «Затем, что все Тобой сотворено / И существует волею Твоею!» (т. 1, с. 157).
Композиционно стихотворение трехчастно. В первой – однострочной (нимбообразной) – части «Свод радуги – Творца благоволенье…» обозначен первично-сущностный и высший уровень теоантропных смыслов бытия, дан «нимб» («дуга») бытия: радуга есть благоволение Творца, его теплое участие в жизни человека, его забота о нем, его обещание в виде природного чуда, что не прольется вода потопом на землю, – и влага неба для блага человеку.
Во второй части стихотворения показано проявление жизнесозидающей воли Творца: «Он сочетает воздух, влагу, свет – / Всё, без чего для мира жизни нет». Это есть и обозначение онтологического процесса жизнетворения, который композиционно (в этой части) завершается опять-таки возвращением-напоминанием «нам» о благоволении Творца: «Он в чёрной туче дивное виденье / Являет нам».
Особенностью бунинского изображения процесса творения является его антропологизация: человек (его взгляд, переживание, видение) включен в процесс творения и в «напоминательные» явления природы. Это характерно для всего творчества Бунина: «Но бездны страх – он не исчез» (т. 1, с. 158); «Я в бездне был, я жил кошмаром» (т. 1, с. 463).
В третьей содержательной части стихотворения нам открывается «автобиографизм» переживания: антропологическое дополняется биографическим. Герой ощущает свою избранность Творцом: как радуга есть благоволение Творца, так и он исполнен «Господней благодати» и подобен радуге – «знамению вечного завета»: он «частица» этого Божьего мира (что естественным образом реализуется в творчестве Бунина в мотивах «легкого дыхания», Атмана, «помнящего сердца» и в многочисленных лирических откровениях как в стихах, так и в прозе).
Такое обозначение человека как знамения («места» завета) не противоречит ни религиозной, ни тем более художественной логике и открывает возможность расширительного толкования символики двух радуг, если учитывать еще и контекст функционирования образа радуги в других стихотворениях Бунина. Варианты такого трехзначного толкования двух по смыслу различающихся и соотносимых образов радуг, поддерживаемые содержанием бунинской лирики, таковы: 1) природная радуга: «Вон радуга… Весело жить…»
(т. 1, с. 119); «Перед закатом набежало / Над лесом облако <…> На взгорье радуга упала / И засверкало все вокруг» (т. 1, с. 167), – и библейская (ветхо- и новозаветная); 2) одна радуга ветхозаветная, она напоминает о потопе и символизирует обещание Бога не посылать больше потопа, другая – новозаветная радуга, соотносимая с молитвой «Свете Тихий», она дает человеку возможность переживать любовь как дар («Ты дал мне видеть и любить»); 3) в третьем варианте «прочтения» двух радуг сам человек становится природно-духовным знамением, «средоточием» божьей заботы и любви: «Исполненный Господней благодати», он становится «местом» завета, «местом» «пресуществления в духе» (Топоров 1994, с. 43), что и вызывает у него чувство благодарения.
Но как ни толковать символику двух радуг, они обозначают высокое чувство переживания перехода-соединения: обретения в природном божественного, в Сыне – Отца, в человеке – Его образ.
Конечно, нужно помнить, что религиозное сознание хотя и символично, но и канонично, придерживается своего круга представлений и толкований, но в данном случае – восприятие радуги священнослужителем – нисколько не отменяет и бунинского расширительного «канона»: «Радуга, подобно дуге или мосту, переброшенным между некими двумя берегами или краями, означает и связь между Ветхим и Новым Заветами и «мост» между жизнью временной и вечной в Царстве Небесном» (Настольная книга 1983, т. 4, с. 150–151).
В третьей части стихотворения намечаются едва заметные, но ощутимые семантические изменения (переходы), вбирающие в себя продолжение-смену духовного кода от ветхозаветного к новозаветному. Здесь актуализированы такие ценности, как Господня благодать, блеск радуги (свет) в закате, – усилено то, что С.Н. Булгаков назвал «Светом невечерним» (Булгаков 1917). Все эти узнаваемые «знаки» переключают восприятие и отсылают уже к евангельскому контексту и литургическому переживанию: «Свете Тихий святыя Славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, Иисусе Христе, пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит» («Свете Тихий» 2008, с. 558).
Возможность и естественность такого перехода – включение смыслов и настроений литургического песнопения «Свете Тихий» в состав стихотворения – не должны восприниматься как «натяжка», как желание что-то навязать «нашему» пониманию. Наоборот, для художественного сознания Бунина «Свете Тихий» становится духовно-семантическим кодом, «литургическим воспоминанием» детства:
Любил я в детстве сумрак в храме <…>
И в час, когда хор тихо пел
О «Свете Тихом», – в умиленье
Я забывал свои волненья
И сердцем радостно светлел… (т. 1, с. 63)
Можно говорить о характерной особенности художественного сознания Бунина воспринимать мир в «магическом кристалле» «литургического воспоминания», из духовно-ценностного пространства богослужебного гимна «Свете Тихий», преобразуя себя, приобщая к нему и явления окружающего мира.
«Литургическое воспоминание», как и любое другое воспоминание, может находиться в активной зоне сознательного порождения подобных образов (образов, связанных с источником воспоминания) или в подсознательной: но в любом случае оно порождает подобное (по такому же психоментальному принципу извлечения даже из зоны подсознательного, о котором пишет К.Г. Юнг, приводя пример с «запахом гусей»: запах непроизвольно и властно ворвался в размышления профессора, проходившего мимо фермы, и пробудил в его сознании картины детства: «Ребенком он жил на ферме, где разводили гусей, и их характерный запах с детства врезался ему в память, хотя и был забыт со временем» (Юнг 2006, с. 31)).
О таком роде воспоминания, живущем в «нас» как «*men-субъект» (Топоров 1994, с. 45), Бунин говорит в очерке «Инония и Китеж»: «А воспоминание, – употребляю это слово, конечно, не в будничном смысле, живущее в крови и тайно связующее нас с десятками и сотнями поколений наших отцов, живших, а не только существовавших, воспоминание это, религиозно звучащее во всем нашем существе, и есть поэзия, священнейшее наследие наше, и оно-то и делает поэтов, сновидцев, священнослужителей слова, приобщающих нас к великой церкви живших и умерших» (Бунин 1998, с. 168).
«Небудничный» смысл слова «воспоминание», о котором пишет Бунин, пытается прояснить В.Н. Топоров: «…память, строго говоря, не выбирает своего “деятеля” и уж человек, во всяком случае, им не является, но “субъектность” памяти навязывается самим языком <…> память не что иное, как результат некоего *men-действия <…> предполагающего существование особого “внутреннего” субъекта этого действия. Именно он производит то психоментальное тонкое, резонирующее с усилением “дрожание-трепетание”, с которым связано преодоление инертно-пассивных (“нечутких”) состояний и прорыв к переживанию некоего единства с миром, созвучности, совпадения, родства с ним. Этот прорыв обнаруживает себя полнее всего в пробуждении памяти, в припоминании, вдохновении, экстазе (μανια) и в других “предельных” движениях духовной субстанции (нужно подчеркнуть, что *men-действие неотделимо от творчества в духе <…>). Человек же в этой ситуации выступает всего лишь как носитель и материальный восприемник этого внутреннего духовного движения и интерпретатор идущих от него импульсов, как некое “резонирующе-объясняющее” пространство» (Топоров 1994, с. 44).
В.Н. Топоров описывает «нейтральное» архетипическое состояние псхофизического и пробуждающегося психоментального «“внутреннего” субъекта» («“резонирующе-объясняющего” пространства»), прорывающегося, что характерно (характерна направленность), «к переживанию некоего единства с миром, созвучности, совпадения, родства с ним».
Можно сказать, что в духовной лирике Бунина архетипически (психофизиологично) действует тот же «“внутренний” субъект», но его лирика субъектно центрирована, выражена в конкретной художественной форме и представляет определенные психоментальные состояния, сформировавшиеся в том числе под влиянием библейской традиции и «литургического воспоминания». Бунин в стихотворениях выступает как «священнослужитель» «помнящего» слова, «приобщающий нас к великой церкви живших и умерших» – к тихой радости переживания духовности и родственной связанности бытия.
Лирика Бунина постоянно и бережно фиксирует такую «воспоминательную привязанность» художественного сознания к литургическому гимну «Свете Тихий»: «В вечерний час, над степью мирной, / Когда закат над ней сиял <…> Он (Ангел – Г.К.) видел сумрак предзакатный»; «Благослови / Младенца в тихий час заката» (т. 1, с. 77); «Счастлив тот <…> / Для кого мерцают кротко <…> / Звезды тихим светом» (т. 1, с. 83); «Принес сюда в дары <…> / Печали тихий вздох, молитву – и смиренье» (т. 1, с. 86); «Неуловимый свет разлился над землею <…> Неуловимый свет восходит над землей» (т. 1, с. 93); «К закату, точно окрыленный, / Спешу…» (т. 1, с. 118); «Скоро Троицын день <…> Все цветет…» (т. 1, с. 129); «Не угас еще вдали закат <…> / Светом и таинственным, и кротким» (т. 1, с. 129); «Из недр земных земле благовествую / Глаголы Незакатной Красоты!» (т. 1, с. 156); «Светит только безначальный, / Непорочный свет любви!» (т. 1, с. 163); «Золотой иконостас заката <…> Золотой венец по роще светит» (т. 1,
с. 187); «О божественный отблеск незримого <…> / Море светит сквозь сумрак таинственно <…> / И тогда вся душа / У меня загорается радостью» (т. 1, с. 199); «Глядят монахи на посад / На синь лесов и на закат <…> Костром в далеком перелеске // Гнездо Жар-Птицы занялось» (т. 1, с. 241–242):
За всё тебя, Господь, благодарю!
Ты, после дня тревоги и печали,
Даруешь мне вечернюю зарю,
Простор полей и кротость синей дали. (т. 1,
с. 151)
«Свете Тихий» – особая для религиозного сознания молитва (Логинов 2023) – молитва потаенной радости. Она дошла до нас от первых веков христианства как «светильничное благодарение» Тому, кто стал человеку «на его закате» («пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний») «утешным светом святой славы» (Седакова 2005, с. 356–357); «Песнь заключает в себе вызываемое появлением вечернего света и благодарностью за дожитие до него прославление чрез Христа Св. Троицы и Его Самого» (Толковый Типикон 2008, с. 558).
Соотнесение содержания третьей части стихотворения – «закатного света» субъекта переживания с вечной радостью песнопения (гимна) «Свете Тихий» – вскрывает глубинный пласт авторской таящейся надежды: его чаяние быть подобным, «претвориться», или, если иметь в виду призвание «Света Тихого», «совоскреснуть» (Бальтазар 2006, с. 159).
Данное настроение «совоскресения» было Буниным выражено в стихотворении «Этой краткой жизни вечным измененьем…» (1917) в более категоричной утвердительной форме, в виде полной уверенности: «Бог оставит тайну – память обо мне…» (т. 1, с. 450).
«Две радуги»
Стихотворение Бунина «Две радуги» представляет собой более сложный, почти даже тайный вариант духовного стиха:
Две радуги – и золотистый, редкий
Весенний дождь. На западе вот-вот
Блеснут лучи. На самой верхней сетке
Садов, густых от майских непогод,
На мрачном фоне тучи озаренной
Чернеет точкой птица. Все свежей
Свет радуг фиолетово-зеленый
И сладкий запах ржей. (т. 1, с. 241)
Филологически нетрудно заметить некоторую лексическую общность двух стихотворений «Две радуги» и «Радуга»: дождь, влага, свет, туча, запад-закат, – а также близкое по цвету освещение пространства в контрастных – в черном и светлом – тонах. Названия стихотворений и их похожие начала, усиленные знаком тире, – «Две радуги –…», «Свод радуги –…» – даже в отрыве от духовного содержания задают единый тематический ритм и отражают устойчивую особенность художественного сознания Бунина (общая особенность) закреплять значимые (символически кодовые) слова за доминантными позициями в стихотворении.
С другой стороны, стихотворение «Две радуги» легко можно отнести и к пейзажной лирике, со всеми отсюда вытекающими методическими последствиями категориального анализа. Конечно, можно предположить, что перед нами два разных проблемно-тематических стихотворения: «Две радуги» – пейзажное стихотворение, а «Радуга» – духовное.
Однако, если учитывать религиозные ассоциации, содержательно – по контекстному наполнению – два стихотворения сближаются на основе «литургического воспоминания»: и там, и там проступает вечернее благодарение «возвратному свету» того, кому посчастливилось («пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний») засвидетельствовать: «…радуга <…> блещет лишь в закате» («Радуга»), «На западе вот-вот / Блеснут лучи» («Две радуги»).
Даже косвенного преобразующего присутствия молитвы «Свете Тихий» – узнавание ее присутствия – в пространстве стихотворения достаточно, чтобы обратить внимание на контекстные смыслы и задуматься над чудом двух радуг (Ветхого и Нового завета), двойного благоволения (Отца и Сына).
Связь радуги (двух радуг) как природно-духовного явления с христианской традицией не вызывает сомнений. По наблюдениям Н.И. Макаровой, изображение двух радуг – это повсеместный устойчивый духовно-символический прием как иконописи, так и живописи: «Характерный пример условного изображения радуги – византийская мозаика “Страшного суда” на западной стене церкви Санта-Мария-Ассунта на острове Торчелло (Венеция, XII век). Христос изображен восседающим на двойной радуге в сиянии мандорлы» (Макарова 2019, с. 413); «…устойчивый мотив европейской живописи “Христос, восседающий на двойной радуге”» (Макарова 2019, с. 415). Как отмечает исследовательница, «иконы с мотивом радуги» появляются и на Руси с середины XVI века (Макарова 2019, с. 415).
Следовательно, в скрытой сакрализованной кодировке двух радуг как духовных явлений для религиозного сознания нет ничего необычного. Как нет ничего необычного и в том, что центрированный религиозный символизм («присутствие Бога») перестраивает, «перезагружает» смысловые отношения в стихотворении: мiр призывается, как и в таинстве Евхаристии, на служение миру и на благодарение за дары и плоды Господа. То, что происходит во время храмовой литургии, случается и в природной. Содержание стихотворения «литургично»: все «о всех и за вся» (Литургия 2016, с. 124) участвуют, – оно наполнено жизнетворящими реалиями (весенний дождь, рожь) и особенно узнаваемыми в богослужении цветовыми красками (золотистый, фиолетово-зеленый), которые и намечают «зазнаковое» сакральное пространство. В этом пространстве «…жизнетворный дождь предстает чем-то большим, нежели простой силой природы: в нем выражается знамение Божьего благословения, понимаемого обычно как награда за послушание завету» (Словарь 2005, с. 269).
Важно понимать, что не авторское сознание самовольно порождает духовное пространство текста, а «первотекст» – Священное писание и Священное предание: автор только сохранил в себе такой способ видения и переживания мира, наследовал его от дней Творения, от веков пророков и не утратил в себе духовный опыт предков видеть в зримом незримое, сакральное даже в самых простых «предметах»: «Просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснёт молниею и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле» (Захария 10: 1). Можно сравнить с тем, как у Бунина: «И сладкий запах ржей», – или из другого стихотворения: «Колосьям божьих нив» (т. 1, с. 118).
Прямая поддержка духовно-символическому соотнесению двух радуг как двух Заветов (Ветхого и Нового) содержится в стихотворении «Новый завет», где Бог просит Иосифа исполнить Его новое благоволение:
«Иосиф! Я расторг с жестокими завет.
Исполни в радости господнее веленье:
Встань, возвратись в мой тихий Назарет –
И всей земле яви мое благоволенье». (т. 1,
с. 368)
Вот такое «время благопотребное» и воспроизводит Бунин в стихотворении «Две радуги», соединяя в нем свет Ветхого и Нового завета, и окрашивая его в цвета богослужения, придавая ему усиленные смыслы нового благоволения.
А.Г. Гачева напоминает о действии в религиозном сознании «переходящего» символизма, когда «…сокровенная Жизнь Троицы высвечивалась в событиях, образах, ситуациях сначала Ветхого, а потом Нового Заветов, проступала в них, как Лик на Нерукотворной иконе, облачалась в одежду символа» (Гачева 2021, с. 61).
«Время благопотребное», если расшифровывать «знаки присутствия» (золотистый весенний дождь, свет с запада, свет радуги, озаренная туча), –
это день Пятидесятницы, Святой Троицы, как раз выпадающий достаточно часто на последнюю декаду мая (по старому стилю), когда можно почувствовать «сладкий запах ржей» и «облачить» мiр в цвета Святой Троицы (зеленый): «Праздникам, где прославляется непосредственно действие Святого Духа, – Дню Святой Троицы и Дню Святого Духа усвоен не голубой, как можно было бы ожидать, а зеленый цвет. <…> Так что и обычная земная зелень деревьев, лесов и полей всегда воспринималась религиозным чувством как символ жизни, весны, обновления, оживотворения» (Настольная книга 1983, т. 4, с. 154–155).
Именно по этим «знакам присутствия» можно высказать предположение о дате (времени) написания стихотворения: оно писалось на духовное событие дня Пятидесятницы в майские дни или в память об этих днях.
В качестве дополнительного «явно-неявного» аргумента в пользу версии о «троичной» символике «Двух радуг» может выступать художественная «привычка» Бунина утаивать «образ», не называть главного, но создавать атмосферу его присутствия. Таким, например, является стихотворение «Стамбул», в котором Константинополь не назван, но, как град Китеж, «иеротопичен», «возглавляет» хронотоп. В стихотворении Бунина Троица проступает как «третья радуга» Святого Духа (поддерживаемая троекратным освещением пространства: свет с запада, свет радуги, озаренная туча).
Но примечательно, что Бунин к торжествующему зеленому цвету «облачения» мiра «добавил» фиолетовый, опустив другие и соединив именно эти: «Свет радуг фиолетово-зеленый». Если исходить из гипотезы, что Бунин, описывая состояние природы, изображает «природную литургию», торжество Троицы, то такое цветовое соединение органично воспринимается как победа жизни над смертью не только в природном выражении (очевидность зеленого), но и в христологическом (неочевидность для воспринимающего христологии фиолетового). «Фиолетовый» – в соответствии с каноном богослужебных одеяний священнослужителей и религиозным символизмом – определяется и в своем спектральном значении, и в христологическом: «Если спектр солнечного света представить в виде круга, чтобы концы его соединились, то окажется, что фиолетовый цвет является средостением двух противоположных концов спектра – красного и голубого (синего). <…> Таким образом фиолетовый цвет объединяет в себе начало и конец светового спектра. Этот цвет усвоен воспоминаниям о Кресте и великопостным службам <…> Присущий памяти о Кресте и Распятии фиолетовый цвет, содержа в себе красный и голубой цвета, обозначает, кроме того, некое особое присутствие всех Ипостасей Святой Троицы в крестном подвиге Христа. И в то же время фиолетовый цвет может выражать мысль о том, что Своею смертью на Кресте Христос победил смерть, так как соединение вместе двух крайних цветов спектра не оставляет в образовавшемся тем самым цветовом замкнутом круге никакого места черноте, как символу смерти» (Настольная книга 1983, т. 4, с. 155). (Ср.: «На мрачном фоне тучи озаренной / Чернеет точкой птица»).
«Свет радуг фиолетово-зеленый» – цветовое соединение обозначает цветовой переход, пасхальное завершение сошествием Святого Духа всеземной и всеобъемлющей победы жизни над смертью: но эта победа выражена не только символикой зеленого, но и фиолетового, хранящего в себе – в своей светоносной победе – «память» о смертном подвиге Христа ради «всех и за всех», ради обновления мира, где храмом, сакральным местом становится «всякое место», где есть «только я да Бог», или по-другому: «Я был в духе в день воскресный» (Откровение 1: 10).
Действительно, время, изображенное Буниным, «время благопотребное» – это время праздника, когда «обильный дождь», вызывающий тревогу и память о сокрушительном потопе, сменился «золотистым, редким весенним дождем», радостью полной победы животворящей жизни над смертью: царственные цвета жизни (золотистый, зеленый) и живое воплощение жизни – рожь («каждому злак на поле») – являются зримым выражением сокрытого: «вечного завета», знамением которого выступает радуга. Она есть «знак» двойной направленности. Радуга и вечное напоминание самому вечному Богу о его вечной ответственности перед человеком («…вечно помнит завет Свой» –
Псалтырь, 110: 5), и она, оставаясь природным, воспринимается человеком как «сверхприродное» явление, пробуждающее у него чувство благодарности Творцу. А открыто выраженные и сокрыто переживаемые световые и цветовые «знаки» присутствия Христа, явившего пример богочеловеческого «перехода» (пасхальности) в «жизнь вечную», только усиливают торжество праздника Святой Троицы и творимой Буниным «природной литургии».
Для Бунина творить «природную литургию» – превращать природное в храмовое пространство, возводить природу в Храм – было его постоянной творческой заботой. «И Ночь, спускаясь с гор, вступает точно в храм» (т. 1, с. 135); «И вновь крестить нагую душу / В купели неба и морей!» (т. 1, с. 392):
Гимн природы животворный
Льется к небесам...
В ней твой храм нерукотворный,
Твой великий храм! (т. I, с. 74)
Опять-таки в такой природной иерофании нет ничего неожиданного и особенного. Как обобщает М. Элиаде, «…для людей, обладающих религиозным опытом, вся Природа способна проявляться как космическое священное пространство. Космос, во всей его полноте, предстает как иерофания» (Элиаде 1994, с. 18). Более того, для христианской традиции, о которой пишет святитель Иоанн Златоуст, «храмово-природная» литургия должна быть естественным и привычным делом: «А нам теперь, так как пришедший Христос очистил всю вселенную, всякое место стало местом молитвы. Поэтому и Павел смело увещевал безбоязненно молиться везде <…> Видишь, как очистилась вселенная? На всяком месте мы можем воздевать святые руки, потому что вся земля стала святее внутреннего святилища (храма): там приносилась бессловесная овца, здесь же духовная, а насколько больше жертва, настолько больше и освящение» (Златоуст 1896, с. 438).
Об этом пишет и о. Александр (Шмеман): «Не рукотворный храм, а отверстое небо, Мир, претворенный в храм, вся жизнь – в Литургию: такова основа христианской Lex orandi» («закона молитвы» – Г.К.) (Шмеман 2006, с. 115).
Духовная лирика Бунина в ее «природно-литургических» особенностях находит поддержку и оправдание в непрерывающейся христианской традиции: от «модерна» святителя Иоанна Златоуста до модерна о. Александра (Шмемана). В ней художественное и религиозное ценностно совпадают, одно пронизано другим, образуя устойчивую структуру, порождающий «сдвоенный» центр «Только я да Бог», которые и обеспечивают религиозно-художественную сакрализацию в соответствии с соединением-переходом ветхозаветного и новозаветного, – и расширение храмового пространства до пределов Вселенной:
Воистину достоин восприяти
Ты, Господи, хвалу, и честь, и силу
Затем, что все тобой сотворено
И существует волею твоею! (т. 1, с. 157)
Как, Господи, благодарить
Тебя за все, что в мире этом
Ты дал мне видеть и любить. (т. 8, с. 38)
Выводы
Таким образом, стихотворения Бунина «Две радуги» и «Радуга», конечно, могут оставаться «знаками» эстетического объекта и эстетического восприятия, классифицироваться по проблемно-тематическому признаку: одно – как пейзажное стихотворение, другое – как какое-то иное. Но в контексте ветхозаветной и евангельской традиции и опыта, ею порожденного, «знаки» бунинских стихотворений образуют единое теоантропное, ценностно иерархически центрированное – сакральное – пространство, по своей аксиологии разомкнутое в жизнь, а по своей художественной форме в веках сберегающее те ценности, которые в ней прикровенно выражены. Поистине: «Бог оставит тайну – память обо мне…»
Однако, с другой стороны, в «неочевидном» не все столь очевидно, потому что сказанное здесь о сакральности бунинских «знаков» только потенциально значимо (или попросту мертво) для воспринимающего сознания, не обладающего опытом «контекстного» чтения и религиозного восприятия. Очевидно одно, что «воспринимающий человек», оснащенный, как ему кажется, всесильными и все проясняющими методами чтения, подошел к черте, откуда стала видна «преисподняя», как об этом убедительно пишет К.Г. Юнг, размышляющий об опасности утраты способности переживания сакральных «знаков»: «Эти символы, став частью общечеловеческой культуры, сохраняют тем не менее значительный заряд своей первоначальной трепетности или “волшебности”. <…> они жизненно важны для развития общества. Невозможно отказаться от них без значительного ущерба. Когда их подавляют или не принимают, их специфическая энергия исчезает в подсознании, что ведет к непредсказуемым последствиям. <…> Наше время показало, что значит открыть ворота в преисподнюю. <…> Современный человек не понимает, насколько “рационализм” (уничтоживший его способность к восприятию символов и идей божественного) отдал его под власть психического “ада". Он освободился от “предрассудков” (так, во всяком случае, он полагает), растеряв при этом свои духовные ценности. Его нравственные и духовные традиции оказались прерваны, расплатой за это стали всеобщие дезориентация и распад, представляющие реальную угрозу миру. <…> Мы сняли со всех вещей покров таинственности и богосиянности. Ничто более не свято» (Юнг 2006, с. 92–94).
Справедливое суждение К.Г. Юнга – это всего лишь констатация факта, вынесенный диагноз современному «воспринимающему сознанию», это смирение психоаналитика, имеющего дело с «реальностью» пациента, но не решение «вековечного вопроса», который, по слову
Ф.М. Достоевского, только «русские мальчики» могут разрешить (Достоевский 1972–1986, т. 14, с. 213). А оно видится в дальнейшей всесторонней практике изучения сакральных пространств, знаков «чувственно-сверхчувственных». И здесь наука о знаке должна взять на себя чрезмерные «предупредительные» функции и высокие «просветительские» обязанности: «И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая».
И с последней (главной) стороны, семиотика сакрального открывает возможности преодоления некоторых методологических и теоретических тупиков в современном литературоведении, о которых все чаще стали говорить в последнее время, а именно: о необходимости осознанной смены «режима релевантности». Об этом убедительно и провокационно пишет Г. Тиханов в монографии «Рождение и смерть литературной теории. Режимы релевантности в России и за ее пределами» (Tihanov 2019). В постановке проблемы Г. Тихановым нет ничего нового: сведение значимости знака к информативному, а художественного содержания к «приему» не с теории литературы, как она сформировалась в начале XX века, началось. В.Н. Топоров указывает на начало XIX века, когда мы прошли мимо «тех залогов, которые были нам даны» (Топоров 1995, с. 24), когда сложилась уникальная ситуация выбора, по какому пути идти: придерживаться аристотелевско-гегелевской традиции или библейско-византийской. Возобладал «дух Гегеля», который формульно точно определил Л. Фейербах: «Дух Гегеля – дух логический <…> Гегель на самом деле не был вовлечен в чувственное сознание» (Фейербах, 1995, т. 1, с. 23, 43). В России «в чувственное сознание» был тогда «вовлечен» В.Г. Белинский. Им вопрос о лидерстве форм познания решался практически однозначно: «В сознании истины высшая действительность есть религия, искусство и наука» (Белинский 1953–1959, т. 3, с. 437). Как раз семиотика сакрального (гуманитарная наука), чтобы быть причастной к «высшей действительности», не может обойтись только «духом логическим» и не «вовлекаться в чувственное сознание».