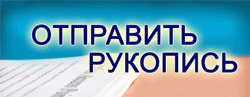Радуга как «знамение завета» в духовной лирике И.А. Бунина: семиотика сакрального. Статья 1. Введение в проблему. Сакральное в произведениях И.А. Бунина
- Авторы: Карпенко Г.Ю.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
- Выпуск: Том 3, № 4 (2023)
- Страницы: 65-71
- Раздел: ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
- URL: https://journals.ssau.ru/semiotic/article/view/27030
- DOI: https://doi.org/10.18287/2782-2966-2023-3-4-65-71
- ID: 27030
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Для решения, казалось бы, простого филологического вопроса, какие смыслы связаны с образом радуги в лирике Бунина, пришлось решать ряд непростых задач, когда выяснилось, что радуга – это не совсем природное явление или образ, а в первую очередь духовная реалия, существующая в стихотворениях Бунина на верховных правах религиозного феномена. Отсюда в первой статье возникла необходимость рассмотрения специфических проблем. 1. Реалии особого порядка, принадлежащие духовному миру, формируют сакральное пространство, определяют его ценностную иерархию. Сакральное предполагает действительное «присутствие Божие». 2. Иеротопическое в тексте возникает как воплощение в «знаках», в «образах», в «знамениях» особого способа видения мира в Его свете. Структуру такой иерофании – «вторжения священного» (М. Элиаде) – предельно просто и точно выразил Бунин: «Никого в подлунной нет, Только я да Бог». 3. Присутствие в тексте такого «сверхзнака», как Бог, превышающего в системе сложившихся в национальной культуре смыслов всякое бытие, превращает текст в духовный. Утверждение надмирной силы, воплощенной в Боге, определяющем мироориентацию и восприятие человека, становится решающим фактором «пресуществления» лирики Бунина в духовную. 4. Художественная сакральность, чтобы быть семантически значимой для читателя, нуждается в узнавании: или в непосредственном отклике-восприятии, или в исследовательском прояснении прикровенных анагогических смыслов. 5. Художественная локализация сакрального легче достигается в текстах не просто «интенсивной» формы, какой является лирика, но и субъектно центрированной.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
В лирике И.А. Бунина есть такие «знаки», которые образуют «тексты “усиленного” типа», наподобие авраамических (Топоров 1983, с. 229). Из них трудно, сложно и почти невозможно извлечь их глубинные смыслы при помощи привычных литературоведческих категорий (Есаулов 2006). Это не образы, не концепты, хотя они так могут быть опознаны и так опознаются, а реалии особого порядка, принадлежащие духовному миру, обозначающие и выражающие его ценностную иерархию – формирующие сакральное пространство. В такие «знаки», «в это слово одинаково входит и творение мира, и наша психика» (Булгаков 1953, с. 23):
Никого в подлунной нет,
Только я да Бог. (Бунин 1965–1967, т. 8, с. 25).
Так Бунин предельно лаконично – в логике соотнесения-сопряжения «микро-и-макрокосма» –
в возрасте 82 лет, за год до смерти, приглушив в силу накопившегося духовного опыта всякую эмоциональность и художественность, почти математически, но символически потаенно точно обозначает «сдвоенную» точку порождения сакрального пространства: «я да Бог».
В двух предлагаемых статьях единая трехкомпонентная проблема, вынесенная в заглавие, – радуга как завет, духовная лирика Бунина, сакральное – будет рассмотрена в обратной последовательности: от «общего» (сакрального) к «частному» (радуге как завету). В первой статье в центре внимания будут находиться две проблемы. Одну из них можно определить так: как возможно в тексте запечатлеть сакральное, как в тексте можно увидеть изображение сакрального, присутствие «знаков» сакрального? Вторая проблема связана непосредственно с творчеством Бунина: с осмыслением «механизмов» (сущностей) порождения сакрального в его произведениях, с определением основы и структуры сакрального в его текстах, что и позволяет говорить о духовной лирике, отражающей, по словам Г.П. Федотова, предельную глубину авторского и национального самосознания (Федотов 1991, с. 11–19), или «способность приближения к Богу в высшей мере» (Толстой 1991, с. 9).
Постановка проблемы и методология
Сакральное, как справедливо пишет А.М. Лидов, «предполагает реальное “присутствие Божие”» (Лидов 2006, с. 10); а иеротопическое в тексте, в пространстве текста возникает как воплощение в «знаках», в «образах» и в «знамениях» особого способа видения мира в свете Его «присутствия» (Лидов 2006, с. 31).
В художественном произведении сакральное находит свое воплощение в образном слове и может быть представлено в намеках, в явных или неявных отсылках к затекстовой реальности, к духовному опыту человека и к его высшему свидетельству и источнику – к Священному Писанию (Библия 2022). Такая художественная сакральность, чтобы быть актуальной, семантически значимой для читателя, нуждается в узнавании: или в непосредственном отклике-восприятии, или в исследовательском прояснении прикровенных анагогических смыслов. До тех пор она в тексте будет существовать в «свернутом», непроясненном виде как потенциальные, но не разгаданные значения, как неназванные «модусы бытия в знаке» (Топоров 1995, с. 4).
Описание же духовного мира категориями традиционного литературоведения часто ведет к «десакрализации» смыслов, к низведению их до уровня всеобщих абстракций, к разрушению сотрудничества иерархии и человека, к ее уничтожению в тексте сакрального, к его перекодировке в другие «знаки». Конечно, категории «образ», «концепт» по отношению к Богу, явленному в тексте, применимы, так как Он явлен в авторском слове и дан со всеми особенностями авторского понимания и воплощения. Но прежде чем сакральное превращать в «образное», оно должно быть утверждено и воспринято как иерархически высшая ценностная реальность национального самосознания и культуры.
Однако в науке на уровне методологических установок происходит разрушение «спектра адекватности» (Есаулов 1995): применяются методы и категории по своим гносеологическим и содержательным возможностям меньше воплощенных смыслов художественного произведения. Такие «сбои в адекватности» допускаются или сознательно, в силу избранных принципов, или по сложившейся традиции, потому что «так принято». Классический пример «сбоя» в понимании «предмета» на основе сложившейся традиции изучения («так принято») приводит А. Швейцер. Занимаясь изучением раннего христианства, он обратил внимание на то, что христианский опыт первых веков описывается в категориях древнегреческой философии, языческой по своим основам, следовательно, в христианстве ученые видят только то, что предписывают им древнегреческие категории: то есть уникальный по духовному подвигу опыт раннего христианства, – периода, когда христианам институционально (так как христианство не было тогда еще государственной религией) не за что было «зацепиться», как только за крест и веру, –
этот уникальный духовный опыт был только иллюстрацией древнегреческих категорий, сформировавшихся на основе разложения мифа и другого опыта (Швейцер 2006, с. 22–23).
Такой же категориально-методологический изъян в понимании сакрального встречается, как пишет и о. Павел Флоренский, даже у апологетов первых веков христианства: «…богословие апологетов, опиравшихся на античную философию, впадало в ошибку…» (Флоренский 1914, с. 56).
В современной науке могут звучать и более радикальные требования, направленные на чуть ли не законодательное умерщвление в тексте духовного. Так, по утверждению С.В. Заграевского, «Научный текст должен быть предельно универсальным и не вызывать идеологического неприятия у тех читателей, которые не исповедуют веру автора этого текста. Этого требует элементарная научная этика» (Заграевский 2018, с. 49); «...реалистично настроенный человек ждёт от науки прежде всего ответов на вопросы “что, кто, где, когда, почему”» (Заграевский 2018, с. 63).
С.В. Заграевский рекомендует ввести «репрессивные» ограничения гуманитарному мышлению в виде «элементарной научной этики», «предельной универсальности» и таким способом предлагает предписать научной мысли оставаться при постижении духовных явлений отечественной культуры в отведенных «кем-то» границах, и если уникальный объект, рожденный, например, в лоне религиозной традиции, изучается, то его надлежит рассматривать с позиции позитивистской «вненаходимости», чтобы (не дай Бог) «не вызвать идеологического неприятия у тех читателей, которые не исповедуют веру автора»: «минималистская» психология заискивания перед современным читателем, перед «реалистично настроенным человеком», которому по разным причинам не открываются воплощенные в художественном творчестве ценности, порожденные верой, – «элементарная научная этика», ведущая к забвению духовных традиций, к разрыву с ними, к утрате национально-культурной идентичности.
Особенно страдает при чтении и осмыслении русская классика: в восприятии читателя сакральные знаки текста просто не считываются, и тогда содержание произведения измеряется горизонтом социальных, нравственно-психологических проблем, не соотносимых с ценностной онтологией русского национального самосознания, умаляются те духовные устремления, которые запечатлели русские писатели в своем творчестве, не видится то, на что указывал как на «главное» в русской классической литературе В.М. Маркович еще в 1990-е годы: «Осваивая фактическую реальность общественной и частной жизни людей, постигая в полной мере ее детерминированность, классический русский реализм едва ли не с такой же силой устремляется за пределы этой реальности и ее законов – к «последним» сущностям общества, истории, человека, вселенной <...>. Общественная жизнь, история, метания человеческой души получали тогда трансцендентный смысл, начинали соотноситься с такими категориями, как вечность, высшая справедливость, провиденциальная миссия России, конец света, Страшный суд, царство Божие на земле» (Маркович 1993, с. 131).
Удачный пример того, как происходит десакрализация, стирание базовых смыслов в текстах русской классики, приводит Т.А. Касаткина, обратившись к переводам произведений Ф.М. Достоевского на европейские языки, в частности, романа «Записки из подполья»: «…все заключения о них европейскими философами делались на основании такого перевода, из которого исчезали непрочитанные и неопознанные переводчиками все встроенные Достоевским в текст скрытые цитаты и аллюзии – прежде всего, библейские. Это огромный пласт текста, оказавшийся не воспринятым в “Записках из подполья” – в результате чего “Записки…” и были прочитаны как текст-предшественник европейского экзистенциализма – поскольку считана была только философия героя (а не автора) –
и то в ее самом поверхностном слое <…> Глядя на такой перевод, мы понимаем, что многие (в том числе профессиональные философы и богословы), читающие текст на русском языке, точно так же не опознают этих «подключенных» автором текстов (а если опознают, то не видят смысла в этом подключении), то есть для них эти триггеры тоже не работают. Разница здесь будет лишь в том, что в тексте Достоевского на русском языке эти триггеры все равно сохраняются – и читатели в какой-то момент могут начать их воспринимать –
при новом изменении общекультурного поля…» (Касаткина 2019, с. 114–115).
Таким способом «слепые места» возникают как у переводчика, так и у современного читателя, довольствующегося в лучшем случае реальным –
информативным – комментарием. Поэтому-то для прояснения, высветления этих «затертых», неопознанных «знаков» нужен квалифицированный комментарий таящихся в них анагогических смыслов (Маццола 2018, с. 107–147): «Этим он радикально меняет ракурс, уровень восприятия, реперные точки, определяющие последующую интерпретацию текста читателем – словом, все то, что мы так неосторожно заслоняем…» (Касаткина 2023, с. 48).
Ход исследования
В свете сказанных предварительных замечаний со всей определенностью можно сказать, что изучение особого рода «реалий» в лирике Бунина (как и всего творчества) становится необходимой и насущной задачей, связанной не просто с описанием текста по определенному научному алгоритму, а с обнаружением тех духовных ценностей, которые утверждает Бунин как высшую реальность и которые определяют особенности его миропонимания и миропостроения (Бердникова 2009). «Никого в подлунной нет / Только я да Бог» – это не просто и не только художественное высказывание, но прежде всего выражение переживания религиозного человека, запечатление его особого опыта как ценности. С учетом этого обстоятельства – что перед нами религиозно-художественное высказывание –
и должно быть организовано наше понимание (Есаулов 2023, с. 7–30).
Прежде чем непосредственно перейти к осмыслению природного явления радуги, представленного Буниным как завет между Богом и человеком (что будет предметом рассмотрения во второй статье), необходимо ответить на вопрос, как текст становится духовным в своей знаковой реальности.
Присутствие в тексте такого «сверхзнака», как Бог, превышающего в системе сложившихся в национальной культуре смыслов всякое бытие, превращает текст в духовный (в текст, насыщенный духовными смыслами), иерархически его выстраивает. Текст как содержащий духовные ценности может выражать их по меньшей мере двояким образом и быть или потенциально духовным текстом, или текстом, в котором ценностная иерархия находит свое непосредственное воплощение в «идеологии», во внутреннем мире, в служении героя. «Что ж бы я без Бога-то была?» – вопросом утверждает свое стояние в вере Соня Мармеладова (Достоевский 2016, с. 278). Потенциально духовный текст (на уровне сюжета героя) – это такой текст, когда автор называет, именует сакральные ценности, но они оказываются вне поля зрения героя. Характерным примером такого присутствия в тексте сакрального, выведенного автором за пределы видения героя, является каменная церковь с «новодельной» живописью-иконой в усадьбе Одинцовой: «Усадьба, в которой жила Анна Сергеевна, стояла на пологом открытом холме, в недальнем расстоянии от желтой каменной церкви с зеленою крышей, белыми колоннами и живописью al fresco над главным входом, представлявшею “Воскресение Христово” в “итальянском” вкусе» (Тургенев 1981, с. 75). В таком тексте обозначенные смыслы открываются только автору и читателю, но не соотнесены с сознанием героя: они в нем бездействуют (Карпенко 2021). Если же герой (субъект восприятия и действия) душевно, в переживании, в сердечном измерении находится в связи, в соотнесении со сверхличным высшим творящим и дарующим началом, то можно говорить об активизации сюжета героя на духовном уровне. Такой герой религиозен, носитель религиозного сознания, «связи» с сакральным: «Ибо на последней своей глубине религия есть не что иное, как жажда Бога: «Жаждет душа моя Бога живого...» (Пс. 41, 3) … 3axотеть Бога... Это значит, прежде всего, всем существом узнать, что Он есть…» (Шмеман 2006, с. 50–51).
В творчестве Бунина можно выделить мощный пласт духовной лирики именно на основании названного «признака». В лирике, чтобы ей быть духовной, сакральное «проявляется, обнаруживается» как иерофания (Элиаде 1994, с. 17): «Все мимолетно – и скорби, и радость, и песни, / Вечен лишь Бог. Он в ночной неземной тишине» (Бунин 1965–1967, т. 1, с. 140); «Нет в мире Бога, кроме Бога, / Сильнее тайны – силы нет» (Бунин 1965–1967, т. 1, с. 222); «Воистину достоин восприятии /
Ты, Господи, хвалу, и честь, и силу / Затем, что все тобой сотворено / И существует волею Твоею!» (Бунин 1965–1967, т. 1, с. 157); «Но стрелку нашу в диске циферблата / Ведет сам Бог. Со всей вселенной в лад» (Бунин 1965–1967, т. 1, с. 333).
Думается, излишне объяснять, что локализация сакрального легче достигается в текстах не просто «интенсивной» формы, какой является лирика, но и субъектно центрированной. В прозе так, как Бунин говорит в лирике, не скажешь: «Только я да Бог», – так не скажешь, потому что экстенсивная повествовательно-событийная форма не позволяет: обязательно найдутся герои-оппоненты.
В духовных текстах Бунина (даже прозаических) все сотворенное в мире на уровне как бытийных, так и бытовых явлений есть действие Божьей воли, устраивается в соответствии со всевышней мерой красоты, порядка и лада: «Но ведь сам Бог любит, чтобы все было “хорошо”. Он сам радовался, видя, что его творения “весьма хороши”» (Бунин 1965–1967, т. 7, с. 347); «И поставил Бог светила на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделить свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо…» (Бунин 1965–1967, т. 7, с. 396).
Воплощаемая Буниным мысль о животворящей энергии Творца имеет соответствующие библейские параллели: его духовная лирика не плод творческой фантазии, а особая форма восприятия мира: видение его явлений в составе Творения, переживание, освещенное духовной традицией Священных текстов. Святитель Филарет (Дроздов) напоминает непреложную истину Творения: «Творец являет в тварях благость свою <…> и, наконец, святость порядка природы, который во всех частях своих происходит от Бога и в происхождении тварей сливается с непосредственным действием Творца» (Филарет 2004, с. 28).
Как известно, в Библии мир созидается как Творение, онтологизированное (сущностно укорененное в неустранимых свойствах бытия) и явленное в модусах истины, добра и красоты. Оценивая сотворенное в каждый из шести дней творения, Господь заключал, «запечатывал» словом: «это хорошо», «хорошо весьма» (Быт 1:10, 12, 18, 21, 25, 31). Дар Творца человеку оборачивается чувством благодарности. Псалтирь пронизан благодарением Творцу за созданное, наполнен переживанием высшей радости быть в этом Божьем мире: «Твои небеса и Твоя земля; вселенную, и что наполняет ее, Ты основал» (Пс 88:12); «Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих» (Пс 103:24).
Тем же чувством благодарности, что и у псалмопевца царя Давида, наполнено сердце бунинского героя: «О, как я чувствовал это божественное великолепие мира и Бога, над ним царящего и его создавшего с такой полнотой и силой вещественности» (Бунин 1965–1967, т. 6, с. 18).
Примечательно и удивительно не только то, что Бунин точно и личностно передает суть ветхозаветной онтологии, но и то, что он угадывает чутьем художника поэтическую душу древних толкователей Пятикнижия, словно у них, у создателей книг Библии, и у толкователей Пятикнижия, и у автора духовных стихов, одно «помнящее сердце», наполненное любовью к Богу. Бунинское восприятие сотворенного мира сродни благоговейному лицезрению талмудистов. В его благодарениях Творцу, в сердечном молитвословии сохранился тот же самый душевно-духовный настрой старательных толкователей. В Талмуде – в духовном толковнике Пятикнижия – во втором «Прибавлении к трактату «Берахот» находятся шедевры древнееврейского поэтического славословия в честь Бога, Творца вселенной: «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, образующий свет и создающий темноту, водворяющий мир, Творец всего сущего! Ты освещаешь землю и ее обитателей по милости, обновляешь по благости ежедневно и непрерывно первоначально созданное. Как многочисленны Твои создания, Господи. Все премудростию сотворил еси, полна земля творениями Твоими» (Талмуд 1902, т. 1, с. 42).
В тональности благодарений, возносимых талмудистами, настраивает и Бунин свое поэтическое слово, обращенное к сотворенному миру. Такой высокий настрой и всесильная поддержка библейского духа необходимы Бунину, чтобы личностным и вселенским центром утвердить того вечного Бога, вокруг которого вращалась жизнь человека с ветхозаветного времени, чтобы втянуть в «Божий круг» все заботы и события человеческие, исторические, космические, чтобы связать с ним решение целого комплекса специфических проблем человеческого существования.
С другой стороны, такое типологическое единство и родство мировосприятия Бунина с человеком библейских времен указывает на наличие общего духовно-антропологического кода, некоей сферы особых чувств и переживаний, которые устойчиво существуют в этой сфере и возникают подобным образом во все времена в «присутствии Бога» и для выражения которых есть подобный – на всех языках «анагогический» – язык.
Признание мира «Божьим миром» (Бунин 1965–1967, т. 1, с. 142), признание Бога, «Хозяина и Отца, бытие которого совершенно несомненно» (Бунин 1965–1967, т. 9, с. 160), ведет к изменению ценностно иерархических связей человека с дольним и горним миром, существенно влияет на характер его восприятия и особенности его самоощущения (Карпенко 1995, с. 35–45). Человек, узнавший, переживший, что в мире «Он есть», живет уже в «Божьем мире», а слово об этом мире, образующее текст, преобразует этот текст в духовный и – более того – в евхаристический: «Знание Бога претворяет нашу жизнь в благодарение <...>, благодарение это возносится и из радости и из печали, из глубины счастья, так и несчастья, из жизни и из смерти <...>, знание Бога, нам дарованное как дар чистого благодарения <...>. Благодарение –
это опыт рая» (Шмеман 206, с. 217, 218–219). Выраженная в слове духовно-антропологическая реальность, иерархически центрированная присутствием Бога, намечает в духовной лирике Бунина и евхаристический текст, преобразующий жизнь в «благодарение»:
Как, Господи, благодарить
Тебя за все, что в мире этом
Ты дал мне видеть и любить. (Бунин 1965–1967, т. 8, с. 38).
Заключение
Чтобы тексту быть духовным, должна случиться, как пишет М. Элиаде, иерофания: «…некое вторжение священного, в результате чего из окружающего космического пространства выделяется какая-либо территория, которой придаются качественно отличные свойства» (Элиаде 1994, с. 25).
Вот с такой художественной реальностью, возникающей в результате иерофании – «вторжения» «сверхзнаков» в текстовое пространство, мы имеем дело, когда обращаемся к лирике Бунина: утверждение надмирной силы, воплощенной в Боге, определяющем мироориентацию и восприятие человека, становится решающим фактором «пресуществления» лирики Бунина в духовную лирику.
Однако одно дело, когда в художественном мире Бунина такими сверхсущностными духовными «реалиями» выступают Бог, Богородица («Богоматерь Божия, кроткая и милостивая, с очами, поднятыми к небу» – Бунин 1965–1967, т. 4, с. 326), узнаваемые по Имени своему и по месту в ценностной иерархии мира, и другое дело, когда в пространство текста «попадают» явления природы (радуга, небо, океан), которые «с первого взгляда» вне религиозного контекста к духовным реалиям никак не отнесешь. Как «маркируются», как опознаются и что выражают «знаки чувственно-сверхчувственного» в духовной лирике Бунина, а именно в его стихотворениях «Две радуги» и «Радуга», – этой заманчивой исследовательской проблеме будет посвящена вторая статья.
Об авторах
Геннадий Юрьевич Карпенко
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева
Автор, ответственный за переписку.
Email: karpenko.gennady@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7325-2802
доктор филологических наук, профессор, кафедра русской и зарубежной литературы и связей с общественностью
Россия, 443086, Российская Федерация, г. Самара, Московское шоссе, д. 34Список литературы
- Бердникова О.А. «Так сладок сердцу Божий мир...» Творчество И. Бунина в контексте христианской духовной традиции. Воронеж: Воронежская областная типография. Издательство им. Е.А. Болховитинова, 2009. 272 с.
- Булгаков С.Н. Философия Имени. Париж: YMCA–PRESS, 1953. 279 с.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений и писем: В 35 т. Т. 6. Преступление и наказание. Санкт-Петербург: Наука, 2016. 480 с.
- Есаулов И.А. Новые категории филологического анализа для понимания сущности русской литературы // Литературоведческий журнал. 2006. № 21. С. 3–14.
- Есаулов И.А. Введение. Анализ, интерпретации и понимание в изучении литературы // Есаулов И.А., Тарасов Б.Н., Сытина Ю.Н. Анализ, интерпретации и понимание в изучении наследия Достоевского. Москва: Индрик, 2021. С. 7–30.
- Есаулов И.А. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н.В. Гоголя). Москва: РГГУ, 1995. 102 с.
- Заграевский С.В. О научной обоснованности иеротопии // ΠΡΑΞΗΜΑ. Проблемы визуальной семиотики. 2018. № 1 (15). С. 49–69.
- Карпенко Г.Ю. Живопись аl fresco «Воскресение Христово» в «итальянском» вкусе в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети» // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 1. С. 140–171.
- Карпенко Г.Ю. Образ «сотворенного мира» в творчестве И.А. Бунина и ветхозаветная традиция // Царственная свобода: О творчестве И.А. Бунина: К 125-летию со дня рождения писателя: Межвузовский сборник научных трудов. Воронеж: Квадрат, 1995. С. 35–45.
- Касаткина Т.А. «Записки из подполья» как христианский текст // Касаткина Т.А. Достоевский как философ и богослов: художественный способ высказывания. Москва: Водолей, 2019. С. 113–239.
- Касаткина Т.А. Что есть реалия? Проблемы реального комментария // Касаткина Т.А. «Мы будем – лица…» Аналитико-синтетическое чтение произведений Достоевского. Москва: ИМЛИ РАН, 2023. С. 14–48.
- Лидов А.М. Иеротопия. Создание сакральных пространств как вид творчества и предмет исторического исследования // Иеротопия. Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси. Москва: Прогресс–Традиция, 2006. С. 9–31.
- Маркович В.М. О трансформациях «натуральной «новеллы» и двух «реализмах» в русской литературе XIX века // Русская новелла: Проблемы теории и истории. Сборник статей. Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1993. С. 113–134.
- Маццола Е. Неизбежность комментария: «слепые места» переводчика // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2018. №. 4. С. 107–147.
- Толстой Н.И. Несколько слов о новой серии и книге Г.П. Федотова «Стихи духовные» // Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). Москва: Прогресс; Гнозис, 1991. С. 5–9.
- Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. Москва: Прогресс; Культура, 1995. 623 с.
- Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. Москва: Наука, 1983. С. 227–284.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 7. Москва: Наука, 1981. 558 с.
- Федотов Г.П. Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). Москва: Прогресс; Гнозис, 1991. 190 с.
- Филарет (Дроздов), митрополит. Толкование на Книгу Бытия. Москва: Лепта–Пресс, 2004. 831 с.
- Флоренский П. Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах. Москва: Путь, 1914. 814 с.
- Швейцер А. Мистика апостола Павла // Христос или Закон? Апостол Павел глазами новозаветной науки. Москва: Российская политическая энциклопедия, 2006. С. 19–370.
- Шмеман Александр, протоиерей. Евхаристия: Таинство Царства. Москва: Паломник, 2006. 311 с.
- Элиаде М. Священное и мирское. Москва: Издательство Московского университета, 1994. 144 с.
Дополнительные файлы