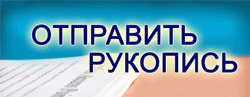Кинематографическая интерпретация психоанализа: к различию черно-белого и цветного кинематографа
- Авторы: Марков А.В.1
-
Учреждения:
- Российский государственный гуманитарный университет
- Выпуск: Том 2, № 3 (2022)
- Страницы: 46-51
- Раздел: ФИЛОСОФИЯ
- URL: https://journals.ssau.ru/semiotic/article/view/10433
- DOI: https://doi.org/10.18287/2782-2966-2022-2-3-46-51
- ID: 10433
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Предложенное В.В. Бибихиным сопоставление поэтики философского произведения Парменида с ранним кинематографом соединяет символистское и авангардное понимание кинематографа, представляя собой своеобразную краткую сумму теоретических воззрений на причины возникновения развернутого сюжета из фабулы или скрытого сюжета. Поэтика кино оказывается феноменологией возникновения художественной литературы. Эти понимания оказываются объединены фрейдистской концепцией преодоления аффекта, побочной в традиционном фрейдизме, но принципиальной для понимания выразительных жестов раннего кинематографа и закономерностей сюжетосложения. Параллели с другими авангардными концепциями кино позволяют уточнить, как может мыслиться символизация жеста, цветового решения и минимального технического обеспечения кинематографа в воспитанном литературой восприятии. Киноаналитика В.В. Бибихина раскрывает специфику понимания экранной чувственности и цвета в символистской традиции литературы и психоанализа.
Полный текст
В начале лекции о Пармениде [Бибихин, 2009], которую Бибихин опубликовал сначала отдельно [Бибихин, 2005], философ поднимает вопрос о том, что пережил сам Парменид, открыв или учредив неподвижное Бытие, стоящее как истина за обманчивой переменчивостью вещей. Открытие Парменида, тезис «Бытие есть», тавтологически предицирующий бытие, Бибихин считает чем-то вроде аффективной предикации человеческого тела, например, резкого разворота головы при неподвижном теле анфас. При этом он же говорит, что такой же принцип изображения был в Египте, где явно бытие не было открыто, и что понять этот аффект нам позволил только кинематограф, после многих веков перспективной живописи, которая априорно сковывала неподвижностью все вещи. Что фактически Парменид разыграл ситуацию кинематографа как оживающей предикации, как возможности развернуть действие, а не только помыслить его как данность при каких-то условиях, как «практику».
Это рассуждение сразу вызывает несколько вопросов. Во-первых, как быть с тем, что в Египте не было своего Парменида, а изображения такие были. Во-вторых, когда речь идет о кинематографе как оживлении картинки, имеется ли в виду следование за изображением вниманием, или же определенная перестройка внимания, которая заставляет принять кинематографическое как должное? Иначе говоря, идет ли речь о моделировании ситуаций с помощью аффектов, или иллюзии фактичности, учитывая, что и то, и другое недостаточно для концептуализации бытия, а Бибихин явно всё же говорит о бытии. И как же удается говорить о бытии как о достаточном, если моделью такого разговора может быть только цветное кино, где кроме аффекта движения на экране есть и движение наших ассоциаций, связанных с цветом, и значит, мы можем занять позицию по отношению к бытию, — в то время как Бибихин скорее говорит о раннем кинематографе, если вообще не о праксиноскопе и других игрушках. Для этого рассмотрим внимательнее, почему Бибихин так заговорил о Пармениде.
Бибихин рассуждает о Пармениде как мыслителе, который впервые сделал бытие не темой, а самим предметом мысли, той ее истиной, которая только и позволяет говорить о мысли как о состоявшейся. Все мы понимаем, что слово «бытие», означавшее изначально что-то вроде прироста, урожайности, стало после Парменида, как и после Аристотеля, и после Гегеля, означать ту непосредственность вещей, которая предшествует всяким различениям внутри вещи, ту ее устойчивость, которая только и может обосновать любую другую ее устойчивость, включая устойчивость ее существования или появления. Бибихин сравнивает жест Парменида с изображением Диониса на условной вазе, где тело будет анфас, а лицо — в профиль. Имеется в виду самое известное изображение Диониса времени Парменида, произведение Берлинского Вазописца, одного из создателей краснофигурной живописи. Бибихин замечает, что данная ваза показывает, почему античность не имела нужды в кино — простого усилия ума хватало, чтобы неподвижное изображение представить как движущееся, и что только кинематограф, этот самый незаметный и самый важный из «ренессансов», вернул нам подвижность. Вопрос о мысленном движении изображений на античных вазах подробно исследован, в том числе в отечественной науке [Брагинская, 1979], но вне вопроса о тех революциях в построении изображения, которые сопоставимы с кинематографической революцией.
Возникновение краснофигурной вазописи вместо чернофигурной было не меньшим переворотом, чем караваджистский переворот в европейской живописи: переход от прозрачности среды к подсветке, чисто условной, условность которой не менее радикальна, чем «Черного квадрата» или реди-мейда. Одним из ключей здесь будет тезис Бибихина в книге «Новый Ренессанс», что «чутко[е] и нервно[е] переживание времени» у Данте совпадает с появлением механических часов на башнях итальянских городов. Но гораздо более важный ключ — статья Фрейда «Моисей Микеланджело» (1914) [Фрейд, 1914]. Статья Фрейда посвящена разбору вопроса, вызванного статуей Микеланджело, почему в ней соединена волевая и решительная посадка головы, обращенной вбок, и беспечное поглаживание бороды, разыгранное в совсем ином направлении, чем движение взгляда? Фрейд приходит к выводу, что Моисей справился со своим аффектом гнева, и не разбил скрижали, но сохранил достоинство своего предназначения. Русский перевод М.Н. Попова в ключевом моменте не вполне точен: где в русском переводе «удовлетворение аффекта», там в немецком оригинале Befriedigung — собственно, примирение или успокоение. Получается, что Моисей стал спокоен именно потому, что не стал успокаивать свой аффект, что вполне рифмуется с дальнейшим рассуждением Фрейда, что на лице Моисея еще отражаются аффекты, тогда как подавление движения, видное в теле, показывает в ногах Stellung der beabsichtigten Aktion — позу отказанного действия (как в известном термине Мейерхольда и Эйзенштейна «отказное движение»), что неточно переведено Поповым как «в постановке ноги угадывается неосуществленное намерение», хотя там ничего не «угадывается», но zeigt — показывается, обозначается.
При этом Фрейд ссылается как на метод Джованни Морелли, поиска стилистических улик (которого он считает, введенный в заблуждение его псевдонимом-анаграммой, русским ученым Иваном Лермольевым), так и на как он считал, компилятивность Библии, совместившей рассказ о Моисее как пророке-боговидце, который знал заранее о падении своего народа и поэтому не стал бы ему мстить, имел время успокоиться, и о Моисее как политике-вожде, который реагирует на ситуацию, и неумение эпохи Ренессанса видеть за мороком своих эстетических переживаний очевидные швы библейского текста, ренессансные образованные люди (сейчас не обсуждаем, насколько учён был Микеланджело, и насколько в глазах Фрейда все ренессансные деятели сливались в один образ ученых артистов) воспринимали его как zusammenhängenden — сцепленным, в русском переводе ошибочно «органическое целое». Фрейд считает, что исторический Моисей был человеком гневным, способным к «взрывам аффекта» (Affektausbruch, на русский переведено штампом «в состоянии аффекта»), но у Микеланджело, по Фрейду, Моисей не разбивает скрижали «от испуга (или: угрозы), что они могут разбиться» (durch die Drohung, daß sie zerbrechen könnten, русский перевод здесь бледен «видя, что скрижали могут разбиться…»). То есть испуг от возможного действия как главная стратегия — параллель к тому самому восприятию Библии как сцепки, когда невозможно затронуть один узел событий, чтобы текст не привел в действие другие узлы — в противоположность филологической критике и самому фрейдовскому анализу (это слово вернее употреблять, чем профессиональный ярлык «психоанализ»), которая находит швы, именно исходя из того, что иначе произойдет замыкание аффектов, что иллюзия будет принята как наиболее непосредственный опыт, и сюжет со швами будет воспринят как развернутый сюжет.
В статье Фрейда, написанной с целью разоблачить эту непосредственность как подлог самого бытия, «Будущее одной иллюзии» (1927), которую перевел В.В. Бибихин [Фрейд, 1927], Фрейд рассуждает о том, что культура разделяет с религией ответственность за защиту человека от природы, хотя и не разделяет с ней судьбу. Одна из ключевых фраз этого трактата посвящена тому, что все культуры, вне зависимости от того, как их затронула религия, делают то же самое: «Они никогда не дают себе передышки в выполнении своей задачи — защитить человека от природы, они только продолжают свою работу другими средствами». Иначе говоря, религия вредна по Фрейду не тем, что она присвоила себе слишком большие полномочия создавать нормы, спекулируя в свою пользу культурными достижениями, как это было в просвещенческой критике, но потому что она всегда готова пустить культуру в расход, ставя себя то ее целью, то средством.
В оригинале фраза Фрейда звучит так: Sie macht nicht etwa halt in der Erledigung ihrer Aufgabe, den Menschen gegen die Natur zu verteidigen, sie setzt sie nur mit anderen Mitteln fort. Ключевые слова здесь очень важны, прежде всего, Erledigung, для которого выполнение — слишком бледное слово, собственно, буквально это наполнение пустоты, замена холостого наполненным. Это не просто решение задачи, которое должно состояться, как должно состояться бытие, по отношению к которому мы развернулись всем телом и головой, а не только телом, но это выполнение завета, полновесное. Ведь если решение соответствует задаче, то полнота никогда не соответствует пустоте. Что заряд работает, мы узнаем только когда пушка выстрелит, даже если заряд подгонялся по жерлу пушки со всей необходимой выверенностью крохоборных расчетов — этот мир безопасной надежности не имеет никакого отношения к эффекту.
Другое важное слово, verteidigen — действительно, означает защищать, даже, скорее, выстраивать линию обороны, но также обосновывать, мотивировать. Получается, что культура не просто создает какую-то иллюзию благополучия смыслов, за которыми человек может быть как за стеной, она заставляет человека постоянно основываться на своем смысле, как Парменид заставил весь мир держаться на своем «бытии».
Антирелигиозная работа Фрейда интересна тем, что как пример веры, оправдывающей себя фактом, он приводит свою встречу с Акрополем «на фоне синего неба». Действительный Акрополь оказался настолько настоящим, что не разочаровал и не восхитил, но изумил. Как поясняет Фрейд: «Какой же мелководной и бессильной должна была быть моя тогдашняя вера в реальную истинность услышанного, если сегодня я могу так изумляться!». В оригинале «мелководный» — seicht — что чаще употребляется метафорически как «поверхностный», «плоский», но Бибихин подыскал удачный перевод, исходя из того, что Фрейд сравнивал Акрополь с картинкой на плоской странице учебника, на поверхности, где мелькают впечатления как камешки в мелком ручье. Хотя этимологически «мелкий» и «мелькать» от разных основ, и Бибихин как любитель этимологий это знал, но здесь как раз такое сопоставление уместно. Иначе говоря, для Фрейда важно не то, что факт Акрополя оправдал культурное доверие, созданное такими институтами культуры, как школьный учебник, но что движение веры в реальность, пытающееся успеть за реальностью, ухватить слух воображением, вдруг останавливается, потому что синее небо развертывается во всей красе. Это ближе всего к подкрашенному черно-белому кино, через какой-то из фильтров, но не к цветному, то есть как раз к фокусу и игрушке, которая своей условностью только подкрепляет безусловность нашего отношения к чувственным данным, и значит, заменяет иллюзорный развернутый сюжет действительным сюжетом, в котором участвуют уже не просто персонажи, но действительные субъекты.
Эту мысль Бибихин проговаривает в лекции о Пармениде, когда цитирует в собственном переводе отрывок о друидах из «Записок о галльской войне» Цезаря, что они запрещали записывать священные тексты из опасений как профанации, так и забывчивости. Как переводит Бибихин, друидам виделось непозволительным ослабление памяти письменностью, «когда усердие в заучивании и память начинают подкреплять письменной записью». Слово «подкреплять» в оригинале отсутствует, ut praesidio litterarum diligentiam in perdiscendo ac memoriam remittant можно было бы перевести «при помещении букв на первое место упускают усердие в заучивании и память». Цезарь как великий стратег мыслит пространственно, причем единственный из античных писателей понимает не только как могут разворачиваться события, но и в какой момент может быть запущено то или иное развитие событий; поэтому он всегда подчеркивает свои срочные и неожиданные реакции на ситуации. По сути, Цезарь изобрел такую вещь как алгоритм, хотя бы этого арабского слова еще не существовало. Поэтому для него «президиум», первое место, и «ремиссия», упущение — это цепкие слова стратега, на которых держится всё покорение мира. Бибихин, введя слово «подкреплять» вместе с этимологической фигурой (figura etymologica) «письменная запись», тем самым имеет в виду, что аффект движения есть лишь подкрепление нашей начальной позы отношения к бытию. И как Моисей, настаивает Фрейд, черно-белый, выхваченный из подсвеченного фона, какого-то одного цвета, и как Дионис тоже краснофигурный на темном фоне, как бы подкрашен, так и Парменид понимает бытие как узрение истины прежде, чем она распадется на ставки разных персонажей и разных цветов, узрение в каком-то одном свете, при тех аффектах, которые имеют в виду немое кино и Фрейд.
Косвенное подтверждение того, что речь идет не о черно-белом, а о подкрашенном кино, раннем одноцветной колоризации пленки или подкрашивании отдельных предметов, мы находим в культурных традициях, продолжавших русский символизм и авангард, а также в близких традициях, связанных с общими истоками, в частности, с рецепцией византийской иконы, как греческая традиции. Приведем только два примера: рассуждение о смысле цветного кино у Одиссеаса Элитиса, крупнейшего греческого поэта, так же связанного с православной традицией понимания образа и очень чтившего наследие античной философии, включая Парменида, и о смысле цветной фотографии у архимандрита Зинона (Теодора), самого известного современного русского иконописца, интеллектуально наследующего религиозной философии русского символизма.
Одиссеас Элитис был первым поэтом, обратившим внимание на различие «черно-белого» и «цветного» персонажа [Elytis, 1938], примером чего оказывается различие Микки-Мауса и Дональда Дака в мире Диснея. Черно-белый период творчества Диснея, согласно Элитису — период создания типажа (τύπος) «сразу ставшего самым популярным во всем мире». «Искрометная маленькая мышка, испытавшая все радости и печали, выпадающие на долю человека, выполнявшая самую черную работу, неутомимый пролаза и прогрыза, веселый и временами влюбленный, но всегда такой, что зритель на его стороне. Его действия всегда сопровождаются звучным контрапунктом, столь синхронизированным и бойким (μπριόζα), что он тесно связывает (σφιχτοδένει — стягивает до удушья), давай нам пример такой зрительно-слуховой (οπτικοακουστικής) гармонии, которой не мог достичь ни один звуковой фильм того времени».
Далее Элитис пишет, что во второй период творчества, «вовремя увернувшись от самоповторения и типологизации (τυποποίηση — создания новых типажей), создает новый тип, многострадального Дональда Дака». При этом он «раздвигает горизонты очень широко и с любовью приветствует (αγκαλιάζει — обнимает) весь мир детской фантазии, прибавляя драгоценный элемент — цвет, который и усилил зрительное впечатление, омыв росой его (мира) первобытную радость». И здесь, как пишет Элитис, мир Диснея невероятно обогатился, потому что стало во-первых возможно вводить сколько угодно новых персонажей, любых животных, а во-вторых, сделать даже незаметные эпизоды многозначительными.
Таким образом, цвет потребовал бы в такой системе эстетики введения множества персонажей и множественности бытий, тогда как подкрашенность может сохранить «драгоценный элемент» как очищение аффекта, как ту самую «первобытную радость», которую хотел увидеть Фрейд за гневом исторического Моисея. Где Элитис говорит об омытии росой, там Фрейд говорит о миротворчестве, с тем же смыслом вполне вдохновенного укрощения аффекта гнева, а Бибихин — о таком существовании образа в мире с собой, которое просто предшествовало фиксации как результату аффекта гнева:
Язык, который у нас, несмотря на агрессию терминологической системы, еще сохранился, подвижностью своих значений словесных, подвижностью звучания, которое и меняется, и само просто элементарно протекает во времени, – язык тоже еще принадлежит тому забытому навыку, когда практики фиксации, останавливания, замораживания образа еще не было, в принципе не было, он был какой он в принципе всегда только и бывает, развертывающийся, движущийся.
Связь цветового решения одновременно с вопросом о количестве персонажей и о гневе как аффекте и сдержанности подтверждается и другими данными интересующей нас традиции. Архимандрит Зинон (Теодор) в «Беседах иконописца» утверждает, со ссылкой на Л.А. Успенского, что никакая цветная репродукция не может служить иконой, так как цвет фотографии представляет собой имитацию цвета, приближение к нему, а не собственно цвет. В итоговой книге Успенского [Успенский, 1997] такого рассуждения найти не удалось, а в гораздо более ранней работе [Лосский, Успенский, 1952] проводится другая мысль, что основными красками в иконописи могут быть только естественные, минеральные, тогда как искусственные, краски из готовой палитры, могут использоваться только как дополнительные. Аргумент здесь прямо не приведен, хотя в других местах говорится о «сдержанности» в иконах, умении обходиться минимумом красок. С этим минимумом явно не совместима палитра как таковая, стремление к расширению и максимуму, когда механическое само впечатляет себя, а не создает нового исторического впечатления. Зато вполне совместима именно подкрашенность, которая полностью разоблачает эту искусственность своим спокойствием: блеск разных красок оказался бы театром, имитацией, вроде театра Диснея по Элитису, со своими бурными аффектами тогда как одна простая подкрашенность каким-то цветом оказывается усмирением аффекта: «дополнительность» краски по Успенскому, понятая как «имитация» по Зинону, и есть тот самый жест анфас, в отличие от основного страстного движения, о котором говорит Фрейд как о событии, а Бибихин — как о самом бытии бытия.
Итак, учет такой технической особенности раннего кинематографа как подкраска, равно как и специфики жеста в немом кино, позволяет доказать продуктивность философского анализа кинематографической образности. Мы еще раз убедились, что наследие символистской религиозной философии, критикующей аффекты с точки зрения иконичности, продуктивно для интерпретации не только раннего кинематографа, но и поэтики сюжетного развития в интермедиальном контексте, что позволяет обращаться к опыту психоанализа как продуктивному для сюжетов независимо от частных выводов из каждого сюжета.
Об авторах
Александр Викторович Марков
Российский государственный гуманитарный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: markovius@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6874-1073
SPIN-код: 2436-2520
Scopus Author ID: 57215218399
ResearcherId: Q-7934-2016
доктор филологических наук, профессор
Кафедра кино и современного искусства
РоссияСписок литературы
- Elytis, O. (1938), Η ποίηση του κινηματογράφου, [Online], available at: http://www.cinephilia.gr/index.php/keimena/theoria/2132-walt-disney (Accessed 20 May 2022), (in Greek).
- Бибихин В.В. Чтение философии: Парменид // Историко-философский ежегодник. Москва: Наука, 2005, С. 134–151.
- Бибихин В.В. Чтение философии. Санкт-Петербург: Наука, 2009. 536 с.
- Брагинская Н.В. Надпись и изображение в греческой вазописи // Культура и искусство античного мира: материалы науч. конф. (1979) / Гос. музей изобраз. искусств им. А.С. Пушкина; под общ. ред. И.Е. Даниловой. Москва: Сов. художник, 1980. С. 41–99.
- Лосский В.Н., Успенский Л.А. Смысл икон (1952). https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Losskij/smysl-icon.html (дата обращения: 20.05.2022).
- Успенский Л.А. Богословие иконы православной церкви. Коломна: Изд. братства во имя святого благоверного князя Александра Невского, 1997. 656 c.
- Фрейд З. Моисей Микеланджело (1914). http://psychic.ru/articles/classic63.htm Немецкий оригинал http://www.gutenberg.org/ebooks/30762 (дата обращения: 20.05.2022).
- Фрейд З. Будущее одной иллюзии (1927) http://www.bibikhin.ru/budushee_odnoy_iluzii Немецкий оригинал http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-zukunft-einer-illusion-929/1 (дата обращения: 20.05.2022).
Дополнительные файлы