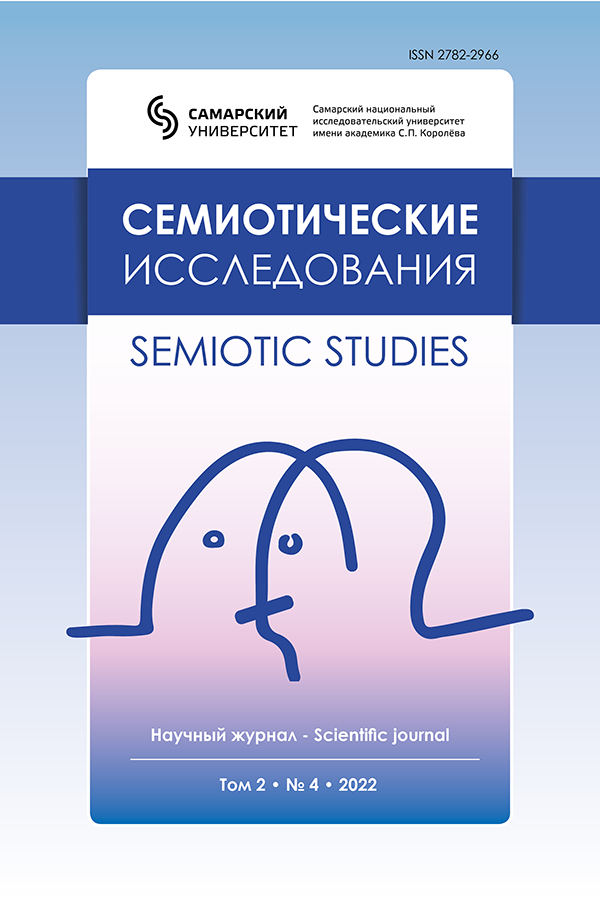Are text interpretations fictions?
- Authors: Scholz G.1
-
Affiliations:
- Ruhr University
- Issue: Vol 2, No 4 (2022)
- Pages: 44-52
- Section: PHILOSOPHY
- URL: https://journals.ssau.ru/semiotic/article/view/10965
- DOI: https://doi.org/10.18287/2782-2966-2022-2-4-44-52
- ID: 10965
Cite item
Full Text
Abstract
In the 19th century philology became the most important human science following history, and the interpretation methods were refined. However, in the 20th century, fundamental doubts arose about the possibility and the sense of the interpretation procedure, and an increasingly sharp criticism was expressed. It was aimed at the presupposition of a certain, unchangeable meaning of the texts. The diversity of interpretations seemed to confirm that. The interpretations could also be called "fictions". However, this essential doubt about a certainty of the text meaning contradicts the linguistic communication in the society. These critics ignore the fact that there are very different forms of texts and the interpretations in different cultural areas pursue very different objectives. It is reasonable to distinguish between criticism and hermeneutics to regulate the controversy of interpretations: while the latter tries to explore the author's perspective, in criticism the interpreter is allowed to bring his own perspective to bear. These two concepts are usually related in the interpretation process, but can be separated in case of controversy.
Full Text
Введение
Почему появились интерпретации?
На протяжении значительного времени в публикациях гуманитарных факультетов мы встречаем различные формы критики, адресованные интерпретации текста как методу. Этот метод подвергается критике в связи с тем, что стремление разъяснить заложенный «смысл» текстов якобы приводит к произвольным утверждениям, и порой речь начинает заходить о «фикциях». Это удар по ядру гуманитарных наук, поскольку они занимаются преимущественно текстами, зафиксированными с помощью языка, и, как науки, должны претендовать на истину. Поэтому сначала следует кратко вспомнить, почему вообще появились интерпретации, которые сегодня считаются «вторичной литературой».
Подвергаться интерпретации всегда должно было то, что не было понятным непосредственно, но должно было быть понято. Это всегда относилось к текстам, которые составляли основу определенного общества и гарантировали его сплоченность и дальнейшее существование. В странах Запада эту функцию выполняли, прежде всего, письменные свидетельства из области религии и права. Однако и Библия, и римское право представляли собой сложные текстовые формы, дистанция между временем их возникновения и современностью постоянно увеличивалась. Это легко могло приводить к непониманию и к спорам относительно нормативного смысла текстов. Поскольку основы культуры должны быть непоколебимы, именно в этих областях и возникали интерпретации, которые письменно фиксировали то, что подразумевалось в основополагающих текстах. Чтобы сделать правильное понимание как таковое возможным, принципы и правила процедуры понимания обобщались в отдельные учения об интерпретации, позже названные «герменевтикой».
С эпохи Возрождения возрос интерес к античной философии и литературе, и здесь также не всегда было возможно непосредственное понимание. Эти древние произведения изучались потому, что от них ждали истины и они были необходимы для собственной культуры. Эти тексты нужно было сделать понятными, то есть их нужно было проинтерпретировать. Наконец, когда благодаря книгопечатанию становятся доступными научные работы из самых разных дисциплин, которые обучающимся не всегда было легко понять, с XVII века начинается составление общих учений об интерпретации, содержащих – часто в качестве дополнения к логике – правила верного понимания и истолкования теоретических или исторических текстов. Они были сконцентрированы на работе с трудными для понимания понятиями, высказываниями или отрывками текста и содержали рекомендации о том, каким образом можно с этими трудностями справиться.
С XVIII века возрастает интерес к поэзии и литературе в целом, принадлежащей в том числе и чужим культурам, с ростом множества доступных текстов возрастает и количество труднодоступного для понимания. Одновременно увеличивается количество требований к правильному пониманию: необходимо прослеживать все нюансы поэтического произведения, как это сформулировано у И.Г. Гердера. Библия и греко-римская литература по-прежнему имеют наибольший вес для самопонимания культуры, и поэтому классическая филология в XIX веке становится значимой гуманитарной наукой, к которой вскоре присоединяются новые филологические дисциплины. В этом контексте герменевтика, или учение об интерпретации, становится филологической дисциплиной, но такой, которая задействует философию своего времени.
Значимым теоретиком интерпретации в XIX веке был филолог Август Бёк, который пытался обосновать интерпретацию и понимание текстов в качестве научной деятельности. В своей «Энциклопедии и методологии филологических наук» он объяснял: «Понимание [...] по сути своей является деятельностью рассудка, хотя и воображение в ней также обязательно должно быть задействовано. Оно требует объективности и восприимчивости; чем выше степень субъективности и сфокусированности человека на самом себе, тем более ограничена его способность к пониманию» (Boeckh 1966, S. 76). Сегодня большинство теоретиков науки, вероятно, сформулировало бы этот тезис аналогичным образом и в отношении естественных наук, поскольку общее убеждение заключается в том, что во всех науках необходима в том числе и живая способность воображения, чтобы, например, иметь возможность формулировать плодотворные гипотезы.
Метод интерпретации для филологов, таких как Бёк, был научным методом по следующим причинам: 1) он обращается к собственной предметной области, у него есть эмпирическое содержание; 2) он не является произвольным, но следует определенным правилам, которые Бёк привёл в систему; 3) он направлен на поиск и установление связей и не ограничивается установлением изолированных фактов; 4) как и все другие науки, он использует определенные принципы («идеи») для распознавания связей; 5) его способ познания, как во всех эмпирических науках, представляет собой только способ приближения к объекту как в экстенсивном плане, так и в интенсивном (то есть он обеспечивает расширение перспективы и увеличение точности понимания текстов); 6) его результаты могут быть проверены, они нацелены на интерсубъективную валидность. К правильному интерпретированию относится и коммуникация интерпретаторов. Таким образом, ранг в царстве наук у филологии ничуть не ниже, чем, например, у физики. Для общества она не менее важна, нежели естествознание. Ведь филология, делая понятными свидетельства прошлого, точно так же служит пониманию и коммуникации в настоящем. В контексте этой культуры учёности в области философии возникли издания и переводы античной классики, сегодня считающиеся образцовыми.
Если для филологов XIX века их методическая работа, несомненно, относилась к сфере науки, то в XX веке ни неопозитивизм, ни Мартин Хайдеггер с Гансом-Георгом Гадамером такую точку зрения уже не принимали. Для неопозитивистов Венского кружка филологические методы не были истинно научными. А для Хайдеггера та филология представлялась слишком научной, потому что он считал, что «наука не мыслит». Он видел в научном методе объективацию и овеществление культурного наследия, которые искажали его значение, обессиливали его и приводили к релятивизму. Поэтому его ученик Гадамер в своей философской герменевтике 1960 года разрабатывал уже не теорию метода, а теорию традиции. Интерпретации должны иметь целью не истинные высказывания о традиции, но истина самой традиции должна быть приведена в действие. Гадамер отказался от идеи константного смысла текста, отстаивая «историчность понимания» и тем самым тезис о том, что понимать означает «понимать всегда иначе».
Практически в это же время в рамках литературоведения началась принципиальная критика всех методов интерпретации, критика, которая в итоге даже привела к утверждению, что интерпретации – это лишь фикции.
Примеры критики интерпретаций
Первые нападки на интерпретирование как таковое имели место не в дисциплинах, исследующих литературу иностранных языков и культур, они формулировались в основном в рамках новых филологий, которые занимались собственной национальной литературой. Я кратко приведу три примера обоснования критики, по каждому из которых я выскажу свою точку зрения.
- a) Первая и наиболее известная критическая работа была опубликована Сьюзен Зонтаг в 1960-х годах (Sontag 1966). По ее словам, интерпретации проецируют на литературные тексты глубинный смысл, который вовсе не возникает при их прочтении. Эти произвольные проекции приводят к тому, что упускается самое важное – эстетический характер литературы. Они заменяют эстетическое переживание психологическими или социологическими идеями, помещаемыми на задний план текстов. Вместо таких фикций следовало бы описывать эстетическую форму. Сразу становится ясно, что здесь подвергаются критике не интерпретации, которые в смысле классической герменевтики стремятся преодолеть недоступное непосредственному пониманию, но те, что дают литературным произведениям оценку.
Критика Зонтаг отчасти справедлива. Тем не менее она не затрагивает всей области. Ведь хорошие интерпретации никогда не выносили за скобки эстетический характер литературных текстов, а описания невозможно точно отделить от интерпретаций (поскольку и они посредством своего языка показывают тексты в определённом свете). Кроме того, необходимо принимать во внимание, что некоторые литературные произведения содержат и передают определенное послание, не формулируя его эксплицитно. В таких случаях интерпретатор может или должен указывать и на него. Чем менее прямо в художественном произведении осуществляется сообщение той или иной мысли, тем осторожнее должен быть в формулировках интерпретатор. Мне, например, отнюдь не представляется неправомерным обнаружение социальной критики в некоторых литературных сказках Ганса Кристиана Андерсена. В целом, не стоит запрещать социологические и психологические интерпретации, но всегда следует с предельной ясностью уточнять, сознательно ли авторы вложили эти аспекты в свои произведения, или же они распознаваемы только с позиции интерпретатора.
б) Намного более решительной является критика метода интерпретации, предпринимаемая в рамках так называемого радикального конструктивизма и опирающаяся на когнитивные науки. В то время как Сьюзен Зонтаг подразумевает эстетический характер литературы в качестве данности, конструктивизм отрицает все данности, объявляет их читательскими конструкциями и утверждает: если все интерпретации, претендующие на научность, исходят из предданного смысла и константного значения языковых форм, то они практикуют совершенно неоправданную «онтологизацию», т.е. они утверждают сущности, объекты там, где их нет. Мы не вправе полагать, что определенная устойчивая информация может быть передана от отправителя к получателю. Такое полагание ведёт к утрате устойчивой референции интерпретаций, и, следовательно, более нет возможности отличить истинные интерпретации от ложных. Представитель этого направления резюмирует: «Представляется неизбежным, что невозможно установить, является ли интерпретация «корректной». Неважно, сколько родственных текстов мы привлекаем, и неважно, сколько толкований других читателей, критиков или ученых мы интерпретируем, мы никогда не сможем установить одно, единственно истинное значение текста, и уж точно не то, которое соответствует значению, подразумеваемому автором» (Glasfeld 1987, S. 96). Поскольку любое прочтение и любая интерпретация всегда зависят от конкретного читателя и соответствующего ему контекста, два читателя никогда не дадут одинаковой интерпретации, более того, каждый читатель в разные моменты времени будет читать и интерпретировать по-разному.
Радикальность этого тезиса, однако, ограничивается признанием того факта, что тексты задают определенные ориентиры для конструирования значения и что тексты и акты их чтения разворачиваются в рамках определенных конвенций. Это смягчает радикальность конструктивизма, поскольку он исходит не из того, что и эти ориентиры и конвенции – лишь субъективные конструкции, но из того, что они заданы непреложно. В общем, не понятно, как эта философия превращает весь мир в продукт мозга, а сам мозг рассматривает как некую абсолютно неизменную величину, объективно истинностное знание о которой нам может дать физиология мозга и когнитивные науки.
Если бы этот тезис был верен в своей радикальной форме, то коммуникация в обществе, а значит, и трансляция конструктивистского взгляда на мир были бы невозможны. Однако в повседневной жизни мы имеем дело с полной противоположностью утверждениям конструктивизма. Инструкции по эксплуатации, прилагаемые к техническим изделиям, таким как пылесосы, сегодня для мирового рынка часто пишутся более чем на 20 языках, и они должны быть поняты везде, где люди хотят использовать эти устройства. Тот же факт, что поэтические и философские произведения можно интерпретировать по-разному, является в гуманитарных науках само собой разумеющимся. Фридрих Шлегель пояснял, что классическая литература всегда должна читаться и интерпретироваться заново, потому что никакая интерпретация никогда не может полностью исчерпать ее смысл. Вплоть до сегодняшнего дня большим преимуществом является возможность прочесть многие разные интерпретации классических, но отнюдь не всегда простых для понимания произведений, таких, например, как произведения Джеймса Джойса. Литературное произведение имеет множество аспектов и поэтому может рассматриваться с разных точек зрения.
Проблемой остаётся то, что иногда две интерпретации противоречат друг другу. В немецкоговорящем ареале в этой связи часто упоминается спор между литературоведом Эмилем Штайгером и философом Мартином Хайдеггером. Один сказал, что в стихотворении Эдуарда Мёрике «Auf eine Lampe» слово «scheint» в последней строке означает «кажется» («кажимость» как противоположность истине), а второй утверждал, что это слово означает «leuchtet» («светит»). Один известный теоретик науки увидел в этом проявление проблематического характера гуманитарных наук, в которых нельзя прийти к общезначимым результатам познания. Но это не убедительно. Все интерпретаторы согласны с тем, что немецкое слово «scheinen» двусмысленно, и можно предположить, что Мёрике стремился именно к этой двусмысленности. В физике также существуют неоднозначности и двусмысленности, например, свет можно интерпретировать как волну и как частицу материи; по этому поводу также велись споры, пока не было достигнуто соглашение о двух возможных интерпретациях. Но в физике и сегодня есть нерешенные спорные моменты. Физик Сабина Хоссенфельдер объяснила, что современная физика в целом больше не прогрессирует, потому что занимается поиском теорий, которые математически красивы и элегантны, за счёт чего могут не соответствовать реальности (Hossenfelder 2018). Мы можем видеть, что естественные науки работают на основе предпосылок, разделяемых не всеми. Герхард Плумпе показал, что вышеупомянутый спор о слове «scheinen» возник таким же образом (Plumpe 2014). Несогласие и противоречия являются неотъемлемой частью науки. И в физике порой имеет место конкуренция нескольких интерпретаций, например, в квантовой теории. (Популярной стала так называемая копенгагенская интерпретация квантовой механики.)
в) Еще более радикально, нежели радикальным конструктивизмом, интерпретации текстов критикуются постмодернистской философией. В то время как конструктивизм опирался в первую очередь на физиологию мозга, постмодернистская философия является или являлась, скорее, врагом рациональности и тем самым естественных наук. Но и она объявляет о невозможности научных интерпретаций, оспаривая в качестве заблуждения предпосылку о смысле и значении. Именно это сделал Жак Деррида, отталкиваясь от теории языка Фердинанда Соссюра. (В дальнейшем я опираюсь на очень четкое изложение позиции Деррида Акселем Шпрее (Spree 1995, s. 143–145).) Для Соссюра все языковые знаки – как единства звука и представления – обладают значением только через их отношение к другим знакам, не к реальным вещам. Поскольку для Деррида система языка не ограничена, но открыта, каждый знак (можно сказать, каждое слово) находится в изменяющихся отношениях с бесконечным множеством других знаков и, таким образом, теряет всякое устойчивое значение. Язык – текучая стихия, в которой ничто не может обрести устойчивости. Поэтому бессмысленно пытаться зафиксировать некоторый определенный смысл с помощью интерпретации. Следовательно, те, кто интерпретирует, создают только фикции, которые никогда не достигают смысла текста, потому что его просто не может быть.
Как для конструктивизма, так и для Деррида каждый акт чтения уже является интерпретацией. Но его позиция ещё более радикальна. Ведь конструктивисты были убеждены, что в голове или мозгу автора возникают определенные смысловые конструкции, хотя они и не достижимы для читателей. У Деррида, однако, в запутанном потоке языка ни один автор, на самом деле, не может зафиксировать значение, о котором вообще можно было бы спросить в акте интерпретации. Такое мышление, такая критика, всегда должны дезавуировать сами себя, ставить себя под вопрос. Ввиду своих предпосылок эта философия даже не может быть адекватно передана и понята, поэтому здесь я могу лишь попытаться дать представление об основаниях этой критики интерпретации, критики, которая в течение некоторого времени вносила очень много беспокойства в гуманитарные науки.
Уже Сьюзен Зонтаг сочетала свою критику произвольности интерпретаций с квазиэтическим упреком в том, что они перекрывают и маскируют литературные тексты собственными размышлениями, и это приводит к тому, что ускользает эстетический характер этих текстов. Деррида в разговоре с Гадамером сформулировал свой этический упрек более резко, когда сказал, что понимание есть выражение воли к власти. Это была ссылка на Ницше. В другой работе я уже разъяснял, что Ницше мог бы сказать только, что интерпретирование демонстрирует волю к власти, потому что в понимании он видел акт приспособления и подчинения (Scholtz 2015). Для Деррида эти понятия невозможно разграничить, и ему следовало бы добавить, что и говорение выдаёт волю к власти. Ведь всякое говорение пытается зафиксировать в языке некоторый смысл, определить нечто текучее, а это было для него метафизикой. Но он хотел поставить под сомнение центральное понятие понимания Гадамера и сделать его непригодным. А это, на мой взгляд, было проявлением воли к власти в гораздо большей степени, нежели слушание и понимание.
Общие черты и последствия критики
Конечно, эта критика имела свои последствия. В трёх приведенных примерах прослеживается одна общая тенденция: уход от текстов и их авторов и обращение к читателям, которые конструируют или деконструируют. Понятия, которые раньше обозначали средоточие философии, метафизика и онтология, превратились в данном контексте в бранные слова и могут использоваться в отношении всего того, что объявляется изъятым из распоряжения индивида и предданным ему. Сьюзен Зонтаг ещё вступалась за литературу, которая должна быть прочитанной и пережитой. Однако позже, после того как новые философские авторитеты заявили, что тексты не обладают никаким определённым смыслом, фактически пропадает мотив к их внимательному прочтению и изучению. Тексты превратились в поводы для свободной игры ассоциаций. Умберто Эко, обращаясь к другому сравнению, писал: «Если тексты не имеют определенного смысла, то каждый акт чтения похож на пикник, для которого автор только предоставляет блюда, а читатель приносит меню» (Eco 1992, S. 71–73). Любопытно, что книги именно из сферы влияния постмодернизма часто очень объёмны, в то время как основные положения этой философии требуют собственно молчания. Радикальная критика интерпретации не только хоронит всё знание о прошлом, основывающееся в значительной степени на языковых документах, на письменных и устных сообщениях, превращает его в фикцию, но и делает невозможной коммуникацию в настоящем. Если адекватное понимание невозможно, то и говорить бессмысленно.
Однако споры о постмодернистской философии уже ушли в прошлое. С тех пор как на большой сцене политики заговорили об «альтернативных фактах» и фейковых новостях, постмодернистская критика понимания и истины смолкла.
Различные формы интерпретации
Основная проблема спора об интерпретациях заключается в том, что каждая интерпретация текста приводит к появлению нового текста и сообщает о том, что непосредственно не прочитывается в тексте. Это приводит к вопросу о том, как второй текст соотносится с первым и возможны ли вообще истинные утверждения о языковых выражениях. Ответ на этот вопрос, как показывают разные формы критики, в существенной степени зависит от решения вопроса о смысле текстов. Если различать только текст и интерпретацию, то создается впечатление, что правила дорожного движения заключают в себе не больше смысла, нежели стихи дадаизма, занятые игрой только со звуками речи. Чтобы обсуждать опасность фикций, необходимо сначала провести различие между типами текстов и функциями интерпретаций. Здесь это возможно лишь в некоторой степени.
В юриспруденции интерпретирование происходит двумя совершенно разными способами. Историк права пытается с филологической и исторической точностью объяснить смысл и функцию старых законов. Он стремится к знанию, претендующему на историческую достоверность. Судья, напротив, должен интерпретировать действующие законы, чтобы правильно применять их к конкретным ситуациям. Поскольку законодательство не может учесть все возможные случаи, судье время от времени приходится продуктивно истолковывать и расширять смысл закона, он должен дополнять закон посредством его применения (часто обсуждаемая проблема в юриспруденции). Только посредством правильного применения смысл закона становится в полной мере очевидным. Если историк права полностью упускает смысл старых текстов, его интерпретацию можно назвать фикцией. Но если судья не истолковывает смысл закона при его применении, но полностью переиначивает его, то его обвиняют в правонарушении, и это преступление.
В богословии ситуация аналогичная, хотя и более сложная, поскольку здесь исторический текст всё еще считается действующим. И здесь экзегет или интерпретатор в рамках историко-критического исследования нацелен на знание формы, смысла и функции определенных текстов, с которым могли бы согласиться все толкователи. Однако священнослужитель в религиозной общине истолковывает библейские тексты в свете применения к ситуации в его общине, и его толкование будет соответствовать соответствующей конфессии и способности его прихожан к пониманию. Он не стремится (или стремится не только) сообщить что-то истинное об изначально подразумевавшемся смысле текста, но донести до слушателей неизменную истину самого текста в том виде, в котором, как ему кажется, она важна для прихожан в данный момент. Между этими подходами к тексту могут возникать серьёзные противоречия. Историко-критическое исследование Библии с его интерпретациями поколебало некоторые теологические догмы, показав их обоснование в Библии в качестве заблуждения, в качестве некоторой фикции. Иногда интерпретации не порождают фикции, а разрушают их. (Этот опыт в конечном итоге даже привел теолога Франца Овербека (1837–1905) к убеждению, что всякая научная теология разрушает христианство. Ранее подобным образом были подвергнуты нападкам со стороны исторических исследований убеждения относительно гуманной, классической культуры Античности. Именно по этой причине Хайдеггер и Гадамер отвергли историко-критический метод филологии. Гадамер в своей философской герменевтике руководствовался исключительно деятельностью судьи и священнослужителя. Этот подход сразу же спровоцировал критику со стороны историков права, филологов и представителей традиционной герменевтики.)
И в историографии интерпретация осуществляется двумя способами, и можно даже утверждать, что всегда (как показал историк Густав Дройзен). Сначала, как и в филологии, необходимо выяснить смысл языковых источников, а затем, из извлечённой таким образом информации составить путём интерпретации относительно целостную картину прошлого. Первая интерпретация обычно не вызывает споров, поскольку реальность, тексты, находятся перед глазами, и только выводы могут быть разными. Но вторая, собственно историческая интерпретация, часто приводит к спорам, потому что прошлое не дано, но только реконструируется исторической наукой. Здесь можно легко прийти к упрёку в том, что всё целостное изображение – это не столько история, сколько поэзия, фикция. (Таково, например, заключение, к которому пришел Гайдн Уайт в своей книге об историографии XIX века, вызвавшей немало критики (White 1973).)
Как известно, в гуманитарных науках интерпретации могут извлекать из исходных текстов нечто такое, что открывает совершенно новые перспективы и даже оказывает сильное влияние на определенные области культуры. Примером может служить книга теолога Карла Барта «Послание к Римлянам» 1919 г., положившая начало так называемой «диалектической теологии». При актуализации текстов формулируются мысли, которые в таком виде в произведениях не прочесть, но которые вызывают большой резонанс в настоящем. Для Гадамера это и есть правильный подход к пониманию, но именно здесь, конечно, таится опасность фикций. Карл Барт по этой причине обратился к Рудольфу Бультману, занимавшемуся историко-критическими исследованиями, с просьбой критически проанализировать его книгу о Послании к Римлянам. Чтобы правильно обращаться с продуктивными – а не только репродуктивными – интерпретациями, на мой взгляд, необходимо разграничивать два вопроса. Вопрос о том, правильно ли понят смысл текстов, отличается от вопроса о том, является ли действительно истинным или значимым то, что излагает продуктивная интерпретация. Например, можно предположить, что кто-то придёт к следующему выводу относительно интерпретаций Гёльдерлина Мартином Хайдеггером: не все представленные мысли принадлежат Гёльдерлину, и в качестве интерпретаций они отчасти являются фикциями, но они интересны как философия самого Хайдеггера. На мой взгляд, такое разграничение несколько упорядочивает безрезультативный спор и хаос интерпретаций.
Заключение
Путь назад как выход
Чтобы провести такое разграничение, нужно, конечно, придерживаться того, что тексты, как правило, имеют смысл и что они не упали с неба подобно дождю, но были написаны людьми с определенным намерением. Поэтому нельзя отказываться от идеи авторства, как это делал постмодернизм, как и от понятия целого. По мнению Мишеля Фуко, значимость автора – современное изобретение, поскольку до XVII века авторы играли роль только в науке, но никак не в литературе. Но это не так. Знаменитая книга Томаса Мора «Утопия» не относится к сфере науки, но она была опубликована под его именем в 1516 году. Попытки разрешения всё еще спорного, но актуального и сегодня вопроса о том, является ли это произведение серьёзно задуманной социальной утопией или же только примером литературной иронии, осуществляются путём анализа авторской позиции и целостной структуры книги. Никогда не были незначимыми вопросы о том, кем написаны античные трагедии и Евангелия Нового Завета, кто был автором новых концепций в философии и теологии, так как последние подлежали государственной или церковной цензуре. Анонимность некоторых произведений отнюдь не свидетельствует о безразличии к авторству, а зачастую является лишь проявлением страха авторов перед преследованием и наказанием. Еретическая атака на три монотеистические религии «De tribus impostoribus» («Трактат о трех самозванцах» – имеются в виду Моисей, Иисус и Мухаммед) долгое время вообще не могла появиться в печати, что произошло лишь в 1753 году без указания авторства. Главное произведение Спинозы, его «Этика», была опубликована только в 1677 году анонимно, уже после его смерти, так как церковь и государство не терпели пантеистических мыслей.
Незнание автора в некоторых случаях затрудняет понимание текстов. Поскольку мы совсем ничего не знаем о Лао-цзы (или Лао-дзе), предполагаемом авторе знаменитого «Дао дэ цзин» (или «Дао-дэ-кинг»), спор может возникнуть, например, по вопросу о том, что это вообще за текст: действительно ли он задумывался как философия или мировоззрение для всех людей или же он был написан как учение и помощь для правителя? От ответа на этот основополагающий вопрос зависит то, как следует понимать и оценивать отдельные высказывания в данном тексте. В то время как Роланд Барт провозглашал «смерть автора», то есть его абсолютную незначимость, во многих случаях исследователи были бы рады знать об авторстве текстов хоть что-то. Ведь от этого зачастую зависит решение о том, к какому жанру принадлежит текст, идёт ли речь об историческом сообщении или о поэзии, о пародии или о философской рефлексии и т.д. Тот, кто хочет понять текст, должен знать жанр, тип текста, потому что иначе текст будет прочитан и понят, возможно, неверно. Выбор жанра уже раскрывает намерение, интенцию автора. Умберто Эко объяснял, что intentio auctoris, интенция автора, не может быть установлена с окончательной достоверностью; необходимо принимать во внимание intentio operis, интенцию произведения, чтобы ограничивать произвол интерпретаций. Но поскольку литературные произведения создаются людьми, не представляется убедительным тезис о том, что интенция произведений исходит из них самих, подобно цветам из растения. Интенции, осознанные намерения, всегда подразумевают некоторое сознание.
Именно поэтому в последнее время наблюдается возвращение к автору (Schaffrick, Willand 2014), тем более что, предположительно, и все продукты постмодернистских интерпретаторов должны быть поняты, а не подвергнуты деконструированию. Это возвращение к автору ведёт в том числе и к разделению герменевтики и критики, наиболее последовательно осуществлённому в XIX веке уже упомянутым в начале филологом А. Бёком, и полностью подтверждённому в XX веке, например, Э.Д. Хиршем. Как уже было сказано, такое разделение требует методического разграничения двух вопросов: о том, что думал и хотел автор, и о том, что думаем мы, интерпретаторы, в отношении его текста. Герменевтика концентрируется, насколько это возможно, на горизонте автора и пытается определить, какой жанр текста он выбрал, какое намерение он преследовал, какими образцами руководствовался, в какой ситуации писал, какой отпечаток накладывал на него язык его окружения, реагировал ли он и как именно на определенные вопросы и проблемы своего времени, свойственны ли ему – как, например, Сократу – иронические высказывания и т.д. Иначе дело обстоит с критикой. Здесь встают вопросы о воздействии текста и о его рецепции, о его значимости в период, когда он был написан и опубликован, о реакции на него и его значении в настоящем, о его эстетическом качестве или истинности для нас; критика может обращаться к социологическим и психологическим факторам. Уже в XVIII веке подчеркивалось, что невозможно заглянуть во внутренний мир другого человека, и поэтому интерпретация никогда не может полностью передать мышление, чувства и стремления автора. Критика, однако, может сформулировать утверждения, которые для самого автора были невозможны, например, о его влиянии на будущие поколения. Поэтому Фридрих Шлегель и Шлейермахер требовали, чтобы исследователь старался понять автора сначала так же хорошо, как он сам себя понимал, а затем – лучше. Это две линии вопросов, которые следует сначала разграничивать, а затем объединять. В обеих областях контекст имеет разный объём. В случае герменевтического вопроса об интенции автора контекст ограничивается областью опыта автора. Критика же может принимать во внимание всё, что служит позиции интерпретатора, что помогает ему оценить значение текста. Если постмодернистские теории исходили из безграничности контекста и таким образом обосновывали неопределенность текста, то тем самым они смешивали перспективу автора с перспективой, доступной исключительно интерпретаторам.
Мишель Фуко в своей критике традиционных интерпретаций говорил, что автор не имеет никакого значения, что важными являются только вопросы: «Каковы условия существования этого дискурса? Откуда он берется? Как он может распространяться, кто может его себе присвоить? Как в нём распределены места возможных тем?» (Foucault 1988, s. 31). Но можно ли установить что-то о происхождении дискурса и о его рецепции, если ничего не известно об авторах и об их положении в обществе? Осмысленно вопросы Фуко можно задавать и на них отвечать только тогда, когда наличествует хотя бы приблизительное понимание текстов. Но для этого часто необходимы знания об авторе. Кому интересно задаваться вопросом о происхождении и распространении абсолютно непонятых текстов, да и кто вообще смог бы такое сделать?
Традиционная герменевтика ни в коем случае не исходила из того, что понять можно всё и понять полностью, как это было представлено в критике. Напротив, теоретики герменевтики, такие как Фр. Шлегель, Шлейермахер, Бёк и другие, говорили, что понимание и интерпретирование, особенно значимых произведений, всегда есть незавершаемый процесс приближения, что всегда есть границы понимания. В этом отношении они совпадают с представителями естественных наук, которые тоже не претендуют на достижение окончательной истины. Бёк добавлял, что человек отнюдь не всегда понимает даже самого себя.
Американская литературная критика не разграничивает герменевтику и критику, а Гадамер даже не считает такое разграничение возможным. Но уже в академических диспутах Средневековья можно распознать принцип их разделения. Ритуал диспута требовал от оппонента сначала своими словами изложить тезис своего визави и только после этого представить свои возражения и контраргументы. Предпосылка была в следующем: чужое языковое высказывание можно настолько достоверно изложить своими словами, что озвучивший его согласится с этим изложением. В поэзии это, однако, невозможно, но и здесь разграничение целесообразно, таким образом авторский текст остается отличимым от интерпретации. Мы убеждены, что способны делать истинные высказывания о вещах из сферы нашего опыта, с которыми каждый будет согласен. Так почему же должно быть невозможным то, что мы в состоянии делать истинные высказывания о языковых выражениях, которые являются такой же частью нашей действительности, как и мебель в нашей квартире? Если же устная речь или письменный текст не совсем понятны, и мы не можем спросить автора, тогда нам приходится интерпретировать. Это может быть сделано хорошо или плохо. Несомненно, среди толкований можно найти и чистые фикции.
Конечно, не всегда существуют чёткие критерии, и поскольку именно литературные тексты содержат в себе множество перспектив, возможны и целесообразны различные интерпретации этих текстов. Они могут привлечь внимание к тем аспектам, которые читатель легко упустит. Но это должны быть такие аспекты, существование которых можно продемонстрировать на основе текста. Приведу пример. И научно-фантастическая литература, и исторические романы обязаны своим существованием продуктивному воображению авторов; первая не ставит себе целью предсказать будущее в виде научного прогноза, вторые не претендуют на историческую истину. Тем не менее, обе обозначают действительность. Станислав Лем отталкивался от опыта технического развития в своем настоящем, а Вальтер Скотт при написании «Айвенго» черпал вдохновение в историографии. Эта двойственность, это парение между реальностью и фикцией, эта игра фантазии характеризует объективное свойство этой литературы и может проявляться самым различным образом. Если при интерпретации её полностью игнорировать, то будет утрачена важная перспектива.
About the authors
Gunther Scholz
Ruhr University
Author for correspondence.
Email: Gunter.Scholtz@rub.de
https://www.ruhr-uni-bochum.de/philosophy/i/index.html.de
Emeritus Professor
Germany, BochumReferences
- Boeckh, A. (1966), Enzyklopädie und Methodenlehre der philologischen Wissenschaften, hrsg.von Ernst Bratuscheck, Darmstadt, Germany.
- Eco, U. (1992), Zwischen Autor und Text, Interpretation und Überinterpretation, München, Germany.
- Foucault, M. (1988), Was ist ein Autor? Schriften zur Literatur, Frankfurt/Main, Germany.
- Glasfeld, E. (1987), Wissen, Sprache und Wirklichkeit. Arbeiten zum radikalen Konstruktivismus, Braunschweig, Wiesbaden, Germany.
- Hossenfelder, S. (2018), Das hässliche Universum, Warum unsere Suche nach Schönheit die Physik in die Sackgasse führt, Frankfurt/Main, Germany.
- Plumpe, G. (2014), Eduard Mörikes Gedicht Auf eine Lampe im Wettstreit der Hermeneutik, Diyalog, no. 1, pp. 7–18.
- Schaffrick, Matthias, Willand, Marcus (Hg.) (2014), Theorien und Praktiken der Autorschaft, Berlin, Boston, Germany.
- Scholtz, G. (2015), Die postmoderne Angriff auf die Hermeneutik, Poetics and metaphysics of artistic statement: Collection of scientific articles dedicated to the 70th anniversary of Doctor of Philology, Professor Nikolai Timofeevich Rymar, Samara, pp. 113–132.
- Sontag, S. (1966), Against interpretations und other essays, New York, USA.
- Spree, A. (1995), Kritik der Interpretation, Analytische Untersuchungen zu interpretationskritischen Literaturtheorien, Paderborn, Germany.
- White, H. (1973), Metahistory, The historical imagination in nineteenth-century Europe, Baltimore, London, UK.
Supplementary files